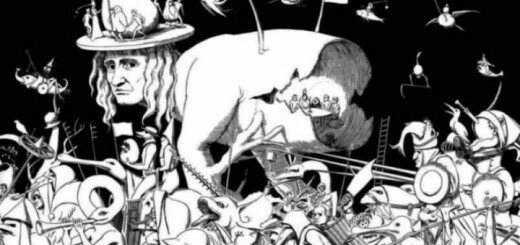Ёлку у Ивановых А.И. Введенский написал в 1938-м году, и от первых театрально-драматургических и иных экспериментов ОБЭРИУ её отделяет целое десятилетие. Эта пьеса имеет некий итоговый, «финиширующий» характер, причем не только в отношении деятельности объединения, включая и театр ОБЭРИУ, но и в отношении театральных, шире — общекультурных, философских поисков всех предшествующих десятилетий ХХ века. Она демонстрирует, пожалуй, самый бескомпромиссный разрыв с традиционализмом и присущими ему ценностями, окончательное изживание их как иллюзий; на нее чаще других указывают как на непосредственную предтечу театра абсурда[1]; именно с ней, по аналогии с этим более поздним западноевропейским феноменом, связывают возникновение русского довоенного театра абсурда[2]. Эти и подобные им суждения уже успели стать общим местом в её изучении. Нас же интересует не сама по себе констатация экстремальных, тотальных процессов, разворачивающихся в рассматриваемой пьесе, но формы, в которые эти процессы облекаются её автором, и структуры, в которых они протекают, а также механизмы их протекания.
В отличие от «хтонической», «монструозной» композиции большинства обэриутских драматургических текстов, композиция «Ёлки у Ивановых» Введенского выглядит вполне упорядоченной — пьеса состоит из четырёх действий в девяти картинах с точным указанием времени и места действия и по своему внешнему облику напоминает образцы едва ли не античной трагедии или драмы времен Шекспира. Однако стройность и упорядоченность в пьесе Введенского фиктивны. Все события относятся к девяностым годам XIX века, о чём сообщается в самом начале первого действия; а в конце пьесы информация об историческом времени конкретизируется в одной из ремарок таким образом, что читатель или зритель путем несложных арифметических операций может точно датировать происходящее:
Картина девятая, как и все предыдущие, изображает события, которые происходили за шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас[3]…
Итак, подразумеваемое время действия — 1898-й год. Но что это уточнение добавляет к пониманию пьесы? Какую роль играют в ней исторические, бытовые и прочие, внешне правдоподобные, детали? Как, например, следует относиться к тому обстоятельству, что в качестве действующих лиц в афише заявлены учителя древних языков, этих непременных атрибутов гимназического курса конца XIX века, которые, однако, латинскому и греческому никого не учат, но вместе с поварами, солдатами и слугами волокут няньку-убийцу в участок? Или к сообщению Пузырёва-отца в заключительной сцене о том, что лесоруб Федор, жених няньки-убийцы, «выучился и стал учителем латинского языка»? Всё это лишь знаки описываемой эпохи, существующие, однако, как бы вне её самой — в отсутствие денотатов. Мир у Введенского состоит не из вещей и предметов (денотаты, как таковые, из пьесы изымаются), а из знаков, заступающих на место вещей и предметов, их собою замещающих. Знаки перенимают на себя свойства и функции реальности, слова превращаются в вещи — отсюда и впечатление ирреальности эпохи, профанации исторического времени и категории времени вообще. Дореволюционная действительность, эта «тихая гавань» прошедшего, представлена Введенским как абсурд, а:
признаки времени носят или иронический, или остраненный до абсурда, или случайный характер[4]…
«Ёлка у Ивановых», если перефразировать самого автора, «вся в часах»: о времени сообщается в начале и в конце каждой картины, но при этом любое время (историческое, календарное, время суток, время человеческой жизни и т.п.) не имеет ровно никакого значения — оно не более чем условность и активно вытесняется пространством, преодолевается остановкой действия в смерти. Именно смерть, а точнее целый каскад смертей, растягивающих время, разрывающих его «объятия», оказывается единственно значимым событием в пьесе. Время, по Введенскому, бессмысленно; самый верный урок, который можно и должно извлечь из времени и который извлекают его «зооперсонажи»-философы «чудный зверь» Жирафа, «бобровый зверь» Волк, Лев-Государь и Свиной поросенок, — это смерть. Именно Смерть является неким универсальным состоянием мира, в ожидании и предчувствии которой время замедляет свой ход и замирает «в просторных сосудах» — наблюдается эффект опространствливания времени. Событие, в том числе и самое главное — Событие Смерти, превращается Введенским в процесс. Введенский изображает мир текучим и длящимся. Все эти состояния имеют общую природу, и определяющим их свойством является процессуальность. Персонажи Введенского лишь атрибутируют определенные состояния, такие как скука, тоска, боль, тяжесть и прочие, включая смерть, — не собственно индивидуальные состояния субъекта, но состояния, как таковые, состояния мира в отсутствие субъекта. Очевидна близость категории «текучести» Введенского современным ему философским концепциям А. Бергсона и его последователей У. Джеймса и А.Н. Уайтхеда, трактующим мир как длительность, как процесс.[5]
Иерархия в мире Введенского отсутствует — в известном смысле он однороден, а связи организуются по принципу повторов и серий.[6] В 1920-е —1930-е годы серийную логику в мире физических явлений и в искусстве исследовал английский ученый Д.У. Данн, установивший специфическое состояние, в котором способны пребывать некоторые объекты, а именно: состояние процесса — бесконечного и во множестве измерений (infinite & multidimensional). В книге «Эксперимент со временем» он изложил и обосновал концепцию серийного мироздания.[7] Обэриуты едва ли не раньше других применили серийную логику в своей творческой практике.
В «Ёлке у Ивановых» Введенский созидает иллюзию иерархии и упорядоченности мира и, одновременно, разрушает ее. Вместо обещанной в заглавии рождественской истории в доме Ивановых, которые, кстати сказать, так и не появляются и о которых в самой пьесе не сообщается абсолютно ничего, вниманию читателей или зрителей предлагается трагедия в доме Пузырёвых — двух молодых ещё, судя по высказываниям и поступкам, родителей и семи их детей от 1 года до 82 лет. Информация о возрасте детей Пузырёвых выглядит избыточной — об этом сообщается, по крайней мере, дважды, в афише и в финальной девятой картине, в то время как о возрасте других персонажей не сообщается ничего; кроме того, именно возраст персонажей становится поводом для споров, возникающих между ними, и косвенной причиной кровавой драмы, разыгравшейся в доме этого добропорядочного семейства. В аттестации своих персонажей Введенский следует принципу дополнительности Н. Бора[8], нарушая, тем самым, прежние, логические связи. Столь же точные, сколь и неправдоподобные указания возраста персонажей служат символической демонстрации возрастов человеческой жизни. Данный прием позволяет представить психофизиологическое существование как процесс — бесконечный и во множестве измерений, а также дает возможность произвольно соединять и варьировать состояния, ощущения, впечатления — разные в одном человеке и одинаковые, повторяющиеся во множестве людей. Годовалый мальчик Петя Перов, вопреки нежному возрасту, более других склонен к житейскому философствованию, напоминающему брюзжание старика. Беспомощность и инфантильность парадоксальным образом сближают, соединяют старость и детство в других персонажах, включая семидесятишестилетнего мальчика Мишу Пестрова и восьмидесятидвухлетнюю девочку Дуню Шустрову. Если соседство начальной и конечной стадий человеческого существования почти бесконфликтно, то соседство двух других, располагающихся не по краям, а внутри, по центру, напротив, исполнено конфликтов и противоречий; старости и детству нечего делить — юность и зрелость всегда соперничают друг с другом. Тридцатидвухлетняя девочка Соня Острова, которую, если исходить из количества прожитых ею лет, должен одолевать кризис среднего возраста, переживает кризис взросления, изо всех сил отстаивая перед нянькой, называющей её маленькой девочкой и подавляющей её желание — либидо[9], собственную женскую привлекательность и сексуальность. В то же самое время Соня Острова капризна и инфантильна, что сближает её с остальными разновозрастными персонажами-детьми. Введенский как бы замыкает время в самих персонажах, в их внутреннем пространстве — разные стадии человеческой жизни циркулируют в их телах. При этом текучесть, процессуальность, серийность превращаются автором в зрелище. Любопытно, что сюжет пьесы Введенского едва ли не буквально развивает знаменитый пассаж Евреинова о «кошмарной идентичности наших домашних «театров для себя». В этом контексте становятся понятны и принципы номинации странного семейства, в котором дети одних родителей носят разные фамилии (Перов, Серова, Петрова, Комаров, Острова, Пестров, Шустрова), и система их отношений. Как и на других уровнях пьесы, здесь действует серийная логика. В качестве первичной (производящей) серии выступают отец и мать — их фамилия, оканчивающаяся на -рёв(а); в качестве вторичных (производных) выступают дети Пузырёвых — их фамилии, образующие две серии: оканчивающуюся на -ров(а) и оканчивающуюся на -стров(а); эти последние, как можно убедиться, дублируют не столько основу, сколько друг друга, утверждая, тем самым, случайный характер связей между основой и её производными. Не лишним, однако, будет заметить столь же случайный характер связи между нянькой и смертью — очевидно, здесь действует тот же принцип дополнительности Н. Бора. После утраты одного из элементов система стремится восполнить образовавшуюся пустоту производством нового элемента или новой серии — таков вероятный смысл шокирующей сцены животного совокупления родителей Пузырёвых у гроба их убитой дочери Сони Островой. Попытка войти в жизнь и вернуть её оказывается неудачной, и в серийном мироздании Пузырёвых образуется брешь. Трагические последствия случайности неизбежны и необратимы — Событие Рождества становится Событием Смерти. Это последнее Введенский показывает через механизмы дробности и серийности: в финале на исходе седьмого часа один за другим умирают остальные члены странного семейства.
Серийное мироздание существует во множестве проявлений и измерений и не знает целостности как таковой. Оно функционирует в отсутствие целостности, а случайный сбой приводит к разбалансированию всей его системы и, в конце концов, к гибели. В этом для мыслящего, рефлектирующего субъекта — не для персонажей, но для автора — заключена трагедия мироздания. Введенский ставит и решает проблему целостности парадоксальным образом — через констатацию её отсутствия, изображая мир и человека в состоянии раздробленности. Механизмы дробления-расподобления в «Ёлке у Ивановых» аналогичны механизмам разъятия на части в балагане. Внутреннее (явления физиологического, вегетативного порядка, работу сознания, подсознания, а также иные запредельные, «потусторонние» ощущения и чувства) Введенский показывает как внешнее — помимо балаганной традиции, следование монодраматизму и театральности Евреинова и Хлебникова здесь вполне очевидно. Едва ли не в самом начале зарубленная топором нянькой, то есть разъятая, поделенная надвое, Соня Острова присутствует на сцене и в таком качестве продолжает играть свою роль вплоть до конца пьесы. Во второй картине первого действия уже убитая и лежащая, «как поваленный железнодорожный столб», она разговаривает сама с собою — точнее, остаются «одни», без свидетелей, и ведут меж собой беседу её голова и тело. Этот эпизод со всей очевидностью отсылает к хлебниковской «Госпоже Ленин», однако отличие его от источника очевидно не менее сходства с ним. Диссоциация тела у Введенского представлена самым непосредственным образом: он предельно конкретизирует, опредмечивает, овеществляет умозрительных, воображаемых персонажей Хлебникова — вместо Голоса Рассудка, Голоса Слуха, Голоса Зрения и т.д., принадлежащих одной героине, некоей Госпоже Ленин, которая в пьесе иначе, как в виде «голосов», не появляется и о существовании которой можно догадаться только по названию, у него говорят и действуют (если только понятие действия вообще применимо к персонажам подобного рода) Голова и Тело, также принадлежащие одной героине, которая, однако, до трагического момента гибели говорила и действовала как самостоятельное лицо. Диалог Головы и Тела со всей очевидностью восходит к балаганно-цирковым номерам чревовещания — у Введенского, однако, не чудесного, а чудовищного. Диссоциативно экспонированное тело Сони Островой — «Тело плюс Голова» — и дальше расподобляется и рассредоточивается. Её внутренний мир превращается в зрелище в буквальном смысле слова:
Помимо этого, человек у Введенского дробится и множится в отражениях — как своих собственных, так и чужих. Процесс отражения приобретает серийный характер. Не только Пузырёвы, но все персонажи суть не что иное, как серия отражений Ивановых или Ивановых, однажды промелькнувших в заглавии пьесы, — эта банальная русская фамилия у Введенского, в отличие от предшественников, прежде всего от Чехова, лишена «акцентологической определенности» (И.Е. Лощилов). «Тут человек лежит бесцельно, / Сам нецельный» (Т. 2. С. 49), — в сцене, следующей за убийством Сони Островой, говорит явившаяся на место преступления полиция. Приведенная реплика, будучи абстрагирована от конкретной ситуации, в системе античной трагедии, на связь с которой настойчиво указывает антураж рассматриваемой сцены (Рок, трагическая вина, хор, котурны и т.п.), обретает обобщенный, универсальный смысл, который, в свою очередь, может быть спроецирован и на знаковую, символическую фигуру Иванова или Иванова. Он лишь знак отсутствующей в серийном мироздании целостности, — не персонифицированный ни в одном из героев, распыленный во множестве «деев», разыгрывающих все перипетии сюжета, незримый лицедей.
Фоном странного, невидимого лицедейства становится предельно условное пространство пьесы — плоскость, на которую нанесена та или иная картина; при этом время в ней близко к остановке и обнаруживает свой ход преимущественно в те моменты, когда одна картина сменяет другую. Это пространство отчетливо напоминает раёшную панораму, состоящую из череды лубочных картинок, или тот же лубок, но статичный, нанесённый на ящик вертепа с внешней стороны и служащий комментарием к разыгрываемому внутри вертепа действу. В ремарках, открывающих каждую картину, подробно образом описывается, что на них нарисовано, — это усиливает их сходство с лубочными прообразами. Вот три из них, открывающие первую, вторую и восьмую картины соответственно:
- На первой картине нарисована ванна. Под сочельник дети купаются. Стоит и комод. Справа от двери повара режут кур и поросят. Няньки, няньки, няньки моют детей. Все дети сидят в одной большой ванне, а Петя Перов, годовалый мальчик купается в тазу, стоящем прямо напротив двери. На стене слева от двери висят часы. На часах 9 часов вечера.(Т. 2. С. 47);
- Ночь. Гроб. Уплывающие по реке свечи. Пузырёв-отец. Очки. Борода. Слюни. Слезы. Пузырёва-мать На ней женские доспехи. Она красавица. У неё есть бюст. В гробу плашмя лежит Соня Острова. Она обескровлена. Ее отрубленная голова лежит на подушке, приложенная к своему бывшему телу. На стене слева от двери висят часы. На них 2 часа ночи. (Т. 2. С. 52);
- На восьмой картине нарисован суд. Судейские в стариках – судействие в париках. Прыгают насекомые. Собирается с силами нафталин. Жандармы пухнут. На часах слева от двери 8 часов утра. (Т. 2. С. 61)
В ремарке из восьмой картины раёшный стих с характерным каламбуром («Судейские в стариках — судействие в париках»), стилизованный под лубочные тексты, а также пунктирно намеченный сюжет блохи (в настенном лубочном театре столь же частый, сколь в commedia dell’arte и пульчинеллатах) довершают отмеченное нами сходство. «Олубочивание» в «Ёлке у Ивановых» направлено на «огрубление» картины мира и сознательную «порчу» традиционной культуры — это станет вполне очевидно, если соотнести, сопоставить Пузырёвых, Соню Острову и няньку-убийцу с чеховскими Ивановым и Астровым, Соней Мармеладовой и Раскольниковым Достоевского и иными классическими образами, задействованными Введенским в этот специфический диалог культур. Лубок Введенского статичен, а точнее — иератичен. Именно это свойство (иератичность), по наблюдениям искусствоведа Б.М. Соколова, отличало образы русского лубка на ранней стадии его существования, в Петровскую эпоху:
Они должны были «свернуться» в своеобразные профанные иконы, во вневременные, декоративные изображения, обладающие лишь возможностью быть оживленными. Эта возможность противоположна прямой экспрессивности Возможность игры была заложена не в движениях и жестах персонажей, а в знаках движений и жестов, входящих в систему изобразительных средств лубка[10]…
В «Ёлке у Ивановых» ремарки, открывающие картины, аналогичны иератичному лубку и напоминают эти свернутые профанные иконы с запечатленными на них знаками будущего действа — предметов и явлений, поступков, движений и жестов персонажей и т.п. Лубок оживает, как только начинается игра с ним. Декорации-картины Введенского — нарисованные, плоские, иератичные, благодаря чему возникает, если можно так выразиться, эффект «четвертой стены», на поверхности которой немного погодя и разыгрывается собственно действо. Как у Хлебникова («Госпожа Ленин») и Евреинова («Четвёртая стена»), действие протекает у стены, на которой начертана буффонада, подразумевающая трагедию — подлинную или мнимую. В конце концов, и всё действие «Ёлки у Ивановых» может быть интерпретировано как своего рода лубочная икона[11], представляющая собой перевернутую с ног на голову житийную икону, и в таком случае открывающие картины ремарки — житийные клейма, также перевернутые, запечатлевающие превратные образы (и дающие превратные толкования) Света.
Любопытны некоторые сюжетные схождения «Ёлки у Ивановых» — в частности, казнь младенца — с вертепными представлениями о царе Ироде, такими как «Царь Ирод», «Смерть царя Ирода». В резко балаганных, подчеркнуто лубочных тонах дается и ключевая для понимания всей пьесы восьмая картина, изображающая сцену суда над нянькой-убийцей. Ей, как мы знаем, предшествовало развитие целого комплекса балаганных мотивов — мотива угрозы и жалобы (тирана и жертвы), мотива карнавальной смерти и карнавальных похорон, мотива наказания, расправы, ареста и т.д. Все они продублированы и образуют в сцене суда новую серию, которая, в свою очередь, дробится и множится, образуя ответвления от неё. Так, открывается сцена суда серией немотивированных смертей: один за другим умирают двое судей, на которых было возложено ведение процесса, после чего миссию судопроизводства подхватывают остальные присутствующие. Секретарь зачитывает протокол, где основными фигурантами являются Козлов и Ослов, о которых до сего момента не было известно ничего. Дело Козлова и Ослова, как и всё в этой пьесе, заканчивается развенчанием-избиением и смертью («Словно мертвые цветы / Полегли в снегу козлы, / Пали на землю ослы, / Знаменем подняв хвосты») и, помимо них, чаянием воскресения из мертвых («Требует Козлов с Ослова: / Вороти моих козлов. / Требует Ослов с Козлова: / Воскреси моих ослов» (Т. 2. С. 63)). Интермедия о Козлове и Ослове на время замещает основное действие (суд над нянькой-убийцей) и создает балаганную атмосферу, но не только в этом заключается её роль. Исследователь Е. Фарыно в ходе анализа фрагментов стихотворений «Зеркало и музыкант», «Мир» сделал интересное наблюдение, касающееся, на наш взгляд, не только поэтических текстов Введенского. Он полагает, что некое подобие фабулы продиктовано у Введенского необходимостью введения важных «мотивов-семантем»:
Но чтобы понять эти тексты, надо знать их язык, т.е. то, что значат эти предметы-мотивы и акты-действия. На уровне правильно опознанного языка никаких алогизмов здесь уже не будет[12]…
В качестве «мотивов-семантем» в рассматриваемой интермедии выступают фамилии героев-антагонистов, в качестве «актов-действий» —их побои, наносимые друг другу, и обоюдные претензии. Как замечает Фарын:
«Ослов» соотнесен с раннехристианскими представлениями Бога-Христа, а «Козлов» — с ритуальной «трагедийной» жертвой[13]…
История о Козлове и Ослове способствует обнаружению под фарсовым, буффонным слоем пьесы трагедийного и мистериального слоев. Трагедия, размещенная затекстом, и буффонада, воплощенная в самом тексте, — вот две крайности, меж которых располагается сюжет Введенского.
После считалки-заклинания («Сужу / Ряжу / Сижу / Решаю / — нет не погрешаю. Сужу / Ряжу / Сижу / Решу / — нет не согрешу» (Т. 2. С. 63-64)), судья выносит обвинительный приговор («казнить-повесить»), но не Козлову и Ослову, разговор про которых, как следует из ремарки, «велся просто для отвода глаз» (Т. 2. С. 64), а истинной виновнице преступления — няньке Аделине Францевне Шметтерлинг. Имя няньки-убийцы никак не стыкуется с её речевой характеристикой — просторечием, свидетельствующим об исконно русском (крестьянском) происхождении. Исследователь Е. Серебрякова вполне резонно указывает на его
карнавальную подоплеку: куклы Немцев были обязательными участниками балаганных представлений[14]…
Очевидно, той же природы чеховская клоунесса и гувернантка Шарлотта Ивановна из «Вишневого сада», с которой у няньки Введенского, помимо национальности и профессии, много общего: обе испытывают трудности с самоидентификацией, отчего обе страдают.[15] Няньке вообще начинает казаться, что она и есть убитая девочка («Её голова у меня в голове. Я Соня Острова — меня нянька зарезала. Федя-Федор, спаси меня» (Т. 2. С. 56)). Так палач превращается в жертву — метаморфоза, для народного театра весьма характерная, уходящая своими корнями в глубокую древность — связанная с мифом и обрядом, с ритуалом жертвоприношения.[16] Семантика переходов, превращений, перевоплощений заключена в фамилии няньки-убийцы, которая с немецкого переводится как «мотылёк», «бабочка». Наиболее значимые в «Ёлке у Ивановых» Введенского предметы-мотивы и акты-действия, такие как Шметтерлинг, девочка, казнь, отсечение головы, могут быть правильно опознаны через заумный дискурс И.Г. Терентьева и его трагедии «Jордано Бруно». Шметтерлинк из «Jордано Бруно» является в «Ёлке у Ивановых» уже в женском обличье. В пьесе Введенского Аделина Францевна Шметтерлинг — дух, душа, Психея, то есть «нянька» головы и тела (рассудка и физиологии), от них отлученная и их разъявшая. С неё — мотылька, бабочки — начинаются все метаморфозы; нянька и смерть, бабочка и смерть дополняют друг друга. По принципу дополнительности, очевидно, существуют все персонажи Введенского. Среди них нет явных антагонистов; даже конфликт няньки и Сони Островой вряд ли можно считать антагонистическим — они дополняют друг друга в ненавистной Введенскому временной перспективе (девочка — девушка — женщина — старуха), тем самым остраняя и снижая её. Одним из последних в этом ряду оказывается лесоруб Федор, ставший учителем мёртвого языка и, вполне вероятно, убийцей.
Итак, в «Ёлке у Ивановых» все дополняют всех и, в конце концов, оказываются рядом со смертью. Изображенное Введенским серийное мироздание настроено на смерть, на самоуничтожение. Умирают все во время праздника — Рождества. Эти «все» и есть Иванов, в теории монодрамы Евреинова — «протагонист», «одинокий лицедей», драма которого становится для него самого и для зрителя «моей драмой». Систему персонажей в этом случае следует трактовать как некое антропоморфное тело, устремленное внутрь себя и своих собственных переживаний. Исследователь И.Е. Лощилов описывает архитектонику драмы Введенского следующим образом:
Смерть Иванова / Ивановых развертывается в трагическом модусе, но вне досягаемости зрителя, которому «для отвода глаз» показывают девять сменяющих друг друга «опереточных картин», нарисованных на поверхности «четвертой стены». «Иванов» тождественен всем «Ивановым», то есть «всем смертным». При этом если в «трагическом» мире W «Иванов» существует в качестве «монады», то в «буффонном» мире W он умирает как «девятерица»[17]…
«Девятеричное» представление о человеке свойственно индуизму: через девять отверстий, имеющихся в теле, Бог входит в человека. Под влиянием увлеченного индуизмом Хармса Введенский следует древнеиндийской традиции, уподобляя тело «девятивратному граду». В условном, умозрительном «теле» Иванова «вратами» являются Пузырёв-отец и Пузырёва-мать в качестве производящего «низа», а также семеро их детей, однако у него через девять «врат», или девять отверстий, входит Смерть.[18]
Сюжет «Ёлки у Ивановых» располагается меж двух макабрических сюжетов Н.Н. Евреинова и резонирует с третьим: под первым мы подразумеваем микросюжет из его теоретического сочинения «Театр для себя» (глава «Режиссура жизни») о «весёлой вечеринке» в доме чиновника Иванова, где гости:
не умирают, а уже умерли со скуки и, если движут ещё руками, ногами, головой, то с такой же охотой, как восковые фигуры паноптикума[19];..
под вторым — из монодрамы «В кулисах души», где в финале «Я 3-е» героя-протагониста, «подсознательное», «спящее», «бессмертное», после остановки сердца пересаживается на станции Новая Ивановка, которая и есть смерть[20]; и, наконец, под третьим — самый ранний из них сюжет кривозеркальной пародии «Лицедейство о господине Иванове: Моралите ХХ века»[21], написанной Н. Вентцелем и поставленной Н.Н. Евреиновым ещё в 1912-м году, где некоего господина Иванова, а вместе с ним и весь мир, под занавес настигает смерть. Для Введенского смерть не что иное, как процесс умирания, или, в его и Хармса окказиональной терминологии, ритуал «откидывания». Так драма Введенского возвращается в лоно «ритуальной» драмы, а вынесенная в заглавие фамилия напоминает о возвестившем ещё в начале ХХ века о её возрождении В.И. Иванове.
Соборный театр символиста В. Иванова, основанный на дионисийском миропонимании и «ритуальной» драме и у футуриста В. Хлебникова явленный как «Всемирная Косморама», А. Введенским превращен в театр марионеток. Его «театр мироздания» свободно умещается в коробе из-под кукол, отдаленно напоминающей ибсеновский «Кукольный дом», сжатый, скомканный, свернутый, — Введенский доводит до предела евреиновский метод симплификации. Тем не менее, театр Введенского не исключает монодраматического, в духе Евреинова, момента. Однако, как и у Хлебникова, речь идет не о монодраме на уровне личности, но о монодраме на уровне условно-умозрительного антропоморфного тела, точнее психофизиологических процессов, протекающих внутри него и инсталлированных (экспонированных) особым образом — во множестве. Функция субъекта, воспринимающего событие, упразднена вслед за его сознанием (или одновременно с ним). И в этом случае у автора-творца есть все шансы слиться со своим творением.
 ШЕВЧЕНКО, Екатерина Сергеевна — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы СамГУ. Доктор наук: диссертация «Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х — 1930-х годов». Автор множества статей и монографий: Шевченко Е.С. Театр Николая Эрдмана / Федеральное агентство по образованию РФ. Самара: Изд-во Самарск. ун-та, 2006. 213 с. (12, 6 п.л.) // Шевченко Е.С. Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х — 1930-х годов / Министерство образования и науки РФ. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2010. 484 с. (28 п.л.)
ШЕВЧЕНКО, Екатерина Сергеевна — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы СамГУ. Доктор наук: диссертация «Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х — 1930-х годов». Автор множества статей и монографий: Шевченко Е.С. Театр Николая Эрдмана / Федеральное агентство по образованию РФ. Самара: Изд-во Самарск. ун-та, 2006. 213 с. (12, 6 п.л.) // Шевченко Е.С. Эстетика балагана в русской драматургии 1900-х — 1930-х годов / Министерство образования и науки РФ. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2010. 484 с. (28 п.л.)
 ×
×
Примечание
- Источник: Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология» — 2011. — № 2(10) стр.170—181
- [1] Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / пер. с фр. Ф.А. Перовской. СПб.: Академич. проект, 1995 ; Koschmal W. Mythos, Folklore und Theater der Avangarde:A.I. Vvedenskijs Elka u Ivanovych // Wiener Slavistischer Almanach. 1986. Sonderband 18. S. 83—106.
- [2] Мейлах М.Б. Русский довоенный театр абсурда: К пятидесятилетию пьесы Александра Введенского «Елка у Ивановых» // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 356—365.
- [3] Введенский А.И. Полн. собр. произведений. В 2-х т. М.: Гилея, 1993. Т. 2. С. 64. Далее ссылки на произведения и статьи А.И. Введенского приводятся по этому изданию, в скобках указываются том и страница.
- [4] Мейлах М.Б. «Что такое есть Потец?» // Введенский А.И. Полн. собр. произведений. В 2-х т. М.: Гилея, 1993. Т. 2. С. С. 39.
- [5] Бергсон А. Собрание сочинений. В 4-х т. М.: Московский клуб, 1992. Т.1 ; Джеймс У. Введение в философию / общ. ред., послесл. А.Ф. Грязнова. М.: Республика, 2000 ; Уайтхед А.Н. Избр. работы по философии / пер. с англ., общ. ред и вступит. ст. М.А. Кисселя. М.: Прогресс, 1990.
- [6] Фещенко В. Логика смысла в произведениях Александра Введенского и Гертруды Стайн // Поэт Александр Введенский: сб. материалов конфер. «Александр Введенский в контексте мирового авангарда». Белград—М., 2006. С. 281.
- [7] Данн Д.У. Эксперимент со временем. М.: Аграф, 2000.
- [8] Долидзе М.Г. Принцип дополнительности в квантовой механике и метод феноменологии в словесном творчестве // Человек: соотношение национального и общечеловеческого: сб. материалов междунар. симпозиума (Зугдиди, Грузия). Вып. 2. СПб., 2004. С. 78—93.
- [9] Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб., 1994.
- [10] Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. М.: РГГУ, 2000. С. 138.
- [11] См. в каталоге Д.А. Ровинского созданные в жанре жития лубки «Бык не захотел быть быком и сделался мясником», «Афиша аглицких комедиантов», «Семик и Масленица» и др.
- [12] Faryno J. Корова со скрипкой — слова как мычанье — pojmovnik x... (Алогизм // Изосемантизм авангарда) // Studia Literaria Polono-Slavica 1. Slawistyczny Ozrodek Wydawniczy. Warszawa, 1993. S. 163-164.
- [13] Faryno J. «Последнее колечко мира… есть ты на мне»: (Опыт прочтения «Куприянова и Наташи» Введенского) // Wiener Slavistischer Almanach. 1991. Band 28. S. 257.
- [14] Серебрякова Е. «Елка у Ивановых» А.И. Введенского и «Приглашение на казнь» В.В. Набокова // Поэт Александр Введенский: сб. материалов конфер. «Александр Введенский в контексте мирового авангарда». Белград—М., 2006. С. 351.
- [15] Гейро Р. «Ёлка у Ивановых» А. Введенского: уровень интертекстуальности // Поэт Александр Введенский: сб. материалов конфер. «Александр Введенский в контексте мирового авангарда». Белград-М., 2006. С. 334-335.
- [16] Фрейденберг О.М. Миф и театр: лекции по курсу «Теория драмы» для театральных вузов. М., 1988.
- [17] Лощилов И.Е. «Монодрама» Николая Евреинова и пьеса Александра Введенского «Елка у Ивановых» // Поэт Александр Введенский: сб. материалов конфер. «Александр Введенский в контексте мирового авангарда».Белград—М.,2006. С. 314.
- [18] Там же. С. 310—311.
- [19] Евреинов Н.Н. Демон театральности. М.— СПб.: Летний сад, 2002. С. 176.
- [20] Евреинов Н.Н. Драматические сочинения. В 3-х т. СПб., 1908 — Пг., 1923. Т. 3. С. 41.
- [21] Русская театральная пародия XIX — начала ХХ века / Сост., ред., вступит. ст. и коммент. М.Я. Полякова. М., 1976.

 Екатерина Шевченко
Екатерина Шевченко