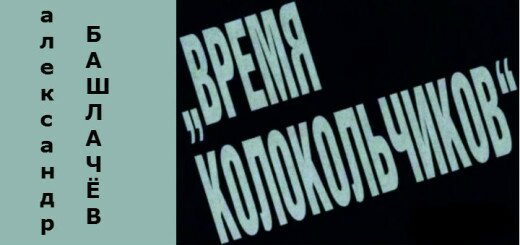Рихард Вагнер // тетралогия «Кольцо Нибелунга», 1848—1874 // «Гибель богов» — финал

Кольцо Нибелунга — цикл из четырёх эпических опер, основанных на реконструкциях германской мифологии, на исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах». Оригинальное название точнее всего переводится как «Кольцо нибелунга». Нибелунг, упоминающийся в названии — гном Альберих, а кольцо — то, которое он создаёт в «Золоте Рейна». Общее время исполнения всех четырёх опер занимает более 15 часов. Самая короткая опера, «Золото Рейна», длится два с половиной часа, самая долгая, «Гибель богов», — более четырёх. Весь цикл представляет собой мистерию — торжественное сценическое представление с прологом («предвечерьем») для трёх дней:
Пролог: «Золото Рейна»
Первый день: «Валькирия»
Второй день: «Зигфрид»
Третий день: «Гибель богов»
Мысль об опере на сюжет германского национального эпоса — сказания о Зигфриде и нибелунгах — зародилась у Вагнера осенью 1848 года. Объединив различные сюжетные мотивы, он изложил их в небольшой статье. На основе последнего её раздела за шестнадцать дней было написано либретто оперы «Смерть Зигфрида» и сделано несколько музыкальных набросков. Революционные события прервали работу над музыкой; первоначальный замысел стал изменяться. Вагнера настолько увлек образ Зигфрида, что он решил посвятить ему еще одну оперу, «Юный Зигфрид», либретто которой было написано за три недели в 1851 году. Но и этих двух частей композитору показалось недостаточно: в июне следующего года он написал либретто оперы «Валькирия», повествующей о судьбе родителей главного героя, а в ноябре закончил работу над текстом пролога всего цикла, «Золото Рейна», рассказывающего о первопричинах трагических событий. В конце 1852 года либретто всей тетралогии, названной — «Кольцо нибелунга», было завершено и вскоре издано. Однако текст финала ещё неоднократно переделывался, изменялись названия двух последних частей, и лишь в 1863 году текст тетралогии приобрел свой окончательный вид.
Работа над музыкой также растянулась на многие годы.
В 1854 году была закончена первая часть — «Золото Рейна». Тотчас же принявшись за сочинение музыки «Валькирии», Вагнер завершил её в 1856 году. Тогда же он начал работу над «Зигфридом», но в 1857 году, написав полтора акта, вынужден был надолго прервать сочинение оперы. Лишь после создания «Тристана и Изольды» и «Мейстерзингеров», поздней осенью 1868 года Вагнер принялся за третий акт «Зигфрида». Но теперь работа шла с трудом: «Зигфрид» был закончен в 1871 году, параллельно писалась последняя часть — «Гибель богов».
Только в 1874 году, через 21 год после начала работы над музыкой и через 26 лет после создания либретто первой оперы, тетралогия «Кольцо нибелунга» была, наконец, завершена.
Вагнер настаивал на постановке всего цикла целиком. Однако против его воли в Мюнхене состоялись премьеры «Золота Рейна» (22 сентября 1869 года) и «Валькирии» (26 апреля 1870 года). Постановка всей тетралогии в специально построенном для вагнеровских опер театре в Байрейте (Бавария) 13—17 августа 1876 года вылилась в большое художественное событие мирового масштаба.
Литературные источники «Кольца нибелунга» многообразны. Корни сказания о нибелунгах уходят в глубокую древность германских племён. Один из наиболее старинных его вариантов запечатлен в «Старшей Эдде» — сборнике мифологических и героических песен, записанных в Скандинавии в XII—XIII веках (датированы примерно IX—XI веками). На её основе в середине XIII века возникла прозаическая «Песня о Вельсунгах», она и послужила главным источником вагнеровского либретто. В меньшей мере был использован немецкий вариант сказания — «Песнь о нибелунгах», зато важную роль сыграла немецкая «народная книга» о неуязвимом («роговом») Зигфриде и различные сказки.
Мы полагаем, было бы чересчур смело и главным образом весьма неосновательно, если бы мы пожелали в одной формуле выразить «общую идею» «Кольца Нибелунга». В этом столь необычайно сложном произведении можно встретиться со всем. В нём можно усмотреть, и не без основания, социалистические тенденции: Вагнер указывает там гибельные последствия жажды золота в мире с тех пор, как драгоценный металл вместо того, чтобы быть предметом наслаждения, как бесполезное «parure de la nature», был употреблен как орудие власти и силы; он видит спасение в уничтожении денег и изображает капиталистов в мало привлекательных чертах злобного гнома Альбериха, сына его, мрачного и жестокого Хагена, или чудовищного дракона Фафнера, который валяется на своих богатствах и кричит из глубины пещеры, зевая:
Я лежу и владею, не мешайте мне спать!..
Не меньше основания будет утверждать, что «Кольцо» является пьесой анархической и революционной, ибо автор сильно осуждает власть обычаев, божеских и человеческих законов, которые он считает почти столь же пагубными для счастья мира, как жажда золота; он становится против Фрики, упрямой богини «обычая» и законных браков, на сторону Зигмунда и Зиглинды, воспламеняющихся кровосмесительной любовью; любовные отношения Зигфрида к Брунгильде точно так же могут быть легко истолкованы как оправдание свободной связи и эмансипации женщины; наконец, развязка тетралогии есть неоспоримое прославление революции: бог договоров, Вотан, побеждён юным анархистом Зигфридом, и царство закона рушится в пламени, пожирающем дворец Гунтера и Валгаллу. Можно видеть в «Кольце» «языческие» тенденции, потому что Зигфрид есть идеальный тип счастливого жизнью человека, управляемого исключительно законом природы; «христианские», потому что идея искупления ясно появляется в развязке, когда Брунгильда поднимается, как Парсифаль, до высшей мудрости и высшей жалости и совершает дело освобождения, полагающее конец царству зла в мире; «оптимистические», потому что представители эгоизма и злобы побеждены, и царство любви основано среди людей; «пессимистические», потому что Вотан, в конце концов, отказывается от желания жизни, и драма заканчивается смертью богов и героев.
Очевидно, невозможно привести к единству столь различные тенденции. Сам Вагнер собственным своим примером постарался показать, как было бы вредно искать какую-либо философскую систему в «Кольце»: он сам ошибся в понимании своей драмы. В то время, когда Вагнер обращается в 1854 году к доктрине Шопенгауэра, он замечает, что его драма, которую он истолковывал до того времени сам в оптимистическом смысле, сообразно со своими теориями относительно всеобщей эволюции, была на самом деле пропитана пессимизмом! Вот очевидное доказательство того, что «Кольцо» было построено по «интуиции», по поэтической мысли, а не по философской формуле.
Однако, не впадая в ошибку, которая могла бы случиться при желании непременной систематизации, можно усматривать в «Кольце» следы двух противоположных тенденций, соответствующих двум основным инстинктам, которые мы признали в Вагнере: тенденции «языческой», или оптимистической, и тенденции «христианской», или пессимистической.
«Кольцо» было задумано вначале как преддверие апофеоза прекрасного человечества; в то время Зигфрид занимал первое место в драме — Зигфрид, который живёт, не заботясь ни о богах, ни о законах, управляемый единственно своими могучими инстинктами, счастливый жизнью и ожидающий счастья только от самого себя, свободный в высшей степени, ибо не боится смерти и, следовательно, знает, что никакая сила в мире не может заставить его согнуть голову.
Из всех действующих лиц Вагнера ни одно не является более откровенно и надменно «языческим» он чувственен, как Тангейзер, но при полной невинности и благодаря полной гармонии между его инстинктами и его волей он совершенно не знает печали, угрызений совести, аскетизма. Он — самое совершенное олицетворение того столь могучего инстинкта жизни, который Вагнер чувствовал кипящим в самом себе, и он наверное — одно из самых великолепных созданий его гения. Ницше, апологет «стремления к власти», страстный поклонник эллинизма, Возрождения, Наполеона, находил, — и был весьма логичен по отношению к себе, — что Вагнер никогда, ни в какую эпоху своей жизни не создавал столь глубоко прекрасной фигуры, как фигура юного Зигфрида.
Но «Кольцо» не осталось драмой Зигфрида; мы видели, что с 1851 года Зигфрид уступает первое место Вотану. Вотан же представляет собою одну из самых глубоко пессимистических фигур всего вагнеровского произведения. Хотя Вагнер и не знал теорий Шопенгауэра в тот момент, когда писал поэму своей тетралогии, но можно утверждать, что Вотан есть некоторым образом олицетворение той «Воли», которую Шопенгауэр рассматривает как сущность мира: сначала Воля «утверждает себя», потом, когда разум понял, что жизнь необходимо влечёт за собой избыток страданий, она «отрицает себя» так поступает и Вотан, который после мечтаний о всемогуществе убеждается, что созданный им мир неисправимо плох, и добровольно погружается в ничто.
Следовательно, тип Вотана есть выражение идеала, диаметрально противоположного тому, который олицетворяет собой Зигфрид. Один воплощает в себе радость жизни, другой — разочарование, абсолютное отречение; один ищет спасения в самом энергичном утверждении существа, в свободном развитии всех сил, всех человеческих инстинктов, другой, напротив, в не менее абсолютном отрицании желания жизни, в стремлении к смерти-избавительнице.
Вагнер изложил эти два взгляда на жизнь с полной добросовестностью и совершенным беспристрастием. Ясно, что он очертил оба действующие лица с одинаковой симпатией, одинаково увлечённый и лучезарным героем, и страдающим и покорным судьбе богом. Он не захотел дать больше значения одному, чем другому. Он попробовал оправдать как точку зрения Зигфрида, так и Вотана. И со всем тем он почувствовал, что весьма трудно примирить в основании пессимизм с оптимизмом, аскетизм с эллинизмом; отсюда у него сомнения, колебания относительно последнего смысла его пьесы; колеблясь сам между энтузиазмом и унынием, между любовью и отвращением к жизни, между Фейербахом и Шопенгауэром, он воплотил сначала больше стороны Зигфрида, потом больше — Вотана. Таким образом, его пьеса осталась немного загадочной, как сама жизнь. И эта самая двусмысленность, которую мы находим в «Кольце Нибелунга», когда ищем в нём разрешения проблемы жизни, и есть, быть может, одна из привлекательных сторон этого великого и глубокого произведения.
Вагнер твердо стоит на почве полного слияния всех искусств, и прежде всего—музыки с поэзией. И его «Кольцо» не есть ни симфония, ни соната, ни какой-нибудь торжественный, хотя бы и трагический, концерт для скрипки или фортепиано, но теоретически вполне продуманная и сознательная, а фактически без всякого уклонения в сторону осуществлённая музыкальная драма.
На основании всего этого необходимо сказать, что, несмотря ни на какой пессимизм и самоотречение, ни на какое отречение самонаслаждения и, наконец, несмотря ни на какую судьбу, велением которой творятся и погибают все эти индивидуалистически блаженствующие боги и герои,— несмотря на всё это, та мировая катастрофа, о которой вещает Вагнер в «Кольце», всё же открывает путь к новому развитию человечества и к новым его достижениям уже без роковой погони за золотом.
И поэтому совершенно неожиданно оказывается, что Вагнер, внешне отошедший от революции, отошёл, собственно говоря, только от её узких общественно-политических целей. Он возвёл революцию в мировой принцип, в роковую причину гибели всякого мира, который пытается основать себя на беспредельном индивидуализме, на игнорировании общечеловеческого блага, на незаконном, несправедливом, жалком, хотя и художественно красивом, овладении основами мироздания отдельным и бессильным человеком и даже теми же богами, которые тоже пытаются овладеть основой мира только ради своих индивидуалистических вожделений.
Почему мы называем «Кольцо Нибелунга» пророчеством революции? Ведь всякий пророк, вещающий об отдаленных судьбах жизни, вовсе не обязан представлять новый послереволюционный мир со всей научностью, системой и полнотой. Этот мир по необходимости рисуется ему в каких-то сказочных тонах, да и сам революционный переворот тоже покамест представляется ему в наивной и мифологической форме. Поэтому, имея в виду мифологическую структуру трагедии мировой жизни у Вагнера, мы с полным правом должны назвать эту грозную весть «Кольца Нибелунга» не чем иным, как пророчеством невиданного, но по сути дела утопического переворота. Во всяком случае не какому-нибудь комментатору Вагнера, а ему самому принадлежат такие слова:
Если мы вообразим в руках Нибелунга вместо рокового кольца биржевой портфель, то получим страшный образ призрачного владыки мира…
Весь этот красивый героизм, эти восторги героической любви, вся прекрасная мощь мировой истории только и могут быть поняты в свете подобного глубинного пессимизма.
 ВАГНЕР, Вильгельм Рихард — (22.05.1813, Лейпциг — 13.02.1883, Венеция), немецкий композитор, дирижёр, музыкальный писатель. Реформатор оперного искусства. В опере-драме осуществил синтез философско-поэтического и музыкального начал. В произведениях это нашло выражение в развитой системе лейтмотивов, вокально-симфоническом стиле мышления. Новатор в области гармонии и оркестровки. Вагнер занимался философией и политикой. Так же неотъемлемой частью мировоззрения Вагнера был антисемитизм, а сам Вагнер характеризовался как один из предшественников немецкого антисемитизма XX века. Сохранилась обширная эпистолярия Вагнера и его дневники. Большинство музыкальных драм Вагнера основано на мифологических сюжетах (собственные либретто). Оперы: «Риенци» (1840) // «Летучий голландец» (1841) // «Тангейзер» (1845) // «Лоэнгрин» (1848) // «Тристан и Изольда» (1859) // «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867) // «Парсифаль» (1882) // тетралогия «Кольцо нибелунга» — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов» (1854-1874). Публицистические и музыкально-эстетические работы: «Искусство и революция» // «Художественное произведение будущего» (1848) // «Опера и драма» (1851)
ВАГНЕР, Вильгельм Рихард — (22.05.1813, Лейпциг — 13.02.1883, Венеция), немецкий композитор, дирижёр, музыкальный писатель. Реформатор оперного искусства. В опере-драме осуществил синтез философско-поэтического и музыкального начал. В произведениях это нашло выражение в развитой системе лейтмотивов, вокально-симфоническом стиле мышления. Новатор в области гармонии и оркестровки. Вагнер занимался философией и политикой. Так же неотъемлемой частью мировоззрения Вагнера был антисемитизм, а сам Вагнер характеризовался как один из предшественников немецкого антисемитизма XX века. Сохранилась обширная эпистолярия Вагнера и его дневники. Большинство музыкальных драм Вагнера основано на мифологических сюжетах (собственные либретто). Оперы: «Риенци» (1840) // «Летучий голландец» (1841) // «Тангейзер» (1845) // «Лоэнгрин» (1848) // «Тристан и Изольда» (1859) // «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867) // «Парсифаль» (1882) // тетралогия «Кольцо нибелунга» — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов» (1854-1874). Публицистические и музыкально-эстетические работы: «Искусство и революция» // «Художественное произведение будущего» (1848) // «Опера и драма» (1851)
 ×
×
Примечание
- Публикация подготовлена редакцией сайта «АртПолитИнфо» // при составлении публикации были использованы материалы: энциклопедия: М. С. Друскина «100 опер»; статья Анри Лиштанберже «Рихард Вагнер как поэт и мыслитель» и А. Ф. Лосев «Исторический смысл мировозрения Рихарда Вагнера», Глава 6

 Рихард Вагнер
Рихард Вагнер