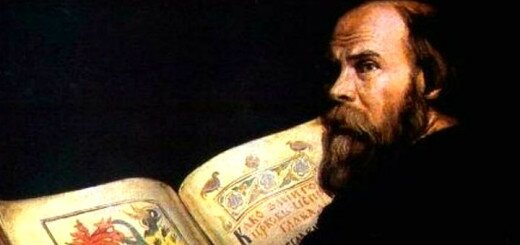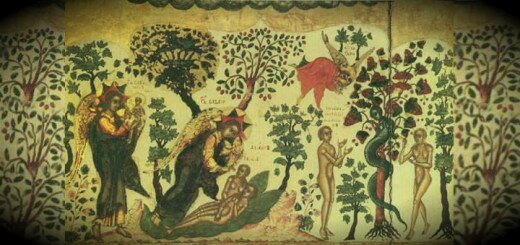Созванные из окрестных деревень приверженцы «древлего благочестия» и невольные жертвы обмана, которые также нередко оказывались среди самосожигателей, становились участниками целой череды длительных и неторопливо совершаемых обрядов. В большинстве случаев, как говорилось выше, старцы наставники и их подопечные терпеливо дожидались прихода гонителей. «Все это время, — как указывает исследователь сибирского старообрядчества И. Сырцов, — обреченные на смерть люди должны были томиться в небольшом сравнительно здании, переполненном людьми, претерпевая голод и холод»[1]
Обряды, совершаемые накануне самосожжений, имели своеобразный зловещий игровой характер, как и любая другая ситуация ритуального перехода «от жизни земной к жизни потусторонней»[2]. Источники старообрядческого происхождения говорят об этих обрядах предельно подробно. Перед первым самосожжением в Палеостровском монастыре в конце XVII в. находящиеся в нем старообрядцы:
последние два дни ни хлеба, ни воды вкушающее, пребыша без сна, кающееся чистым покаянием, готовящеся на смерть вси единодушно[3]…
Основу подготовительных мероприятий составляло, во-первых, перекрещивание водой (предшествующее крещению огнем). Так, в 1730 г. в Каргопольском уезде обнаружились старообрядцы, готовящиеся к самосожжению. Как говорилось в документах Новгородского архиерейского разряда:
се они перекрещиваются и чинят всякие церковные противности, о которых писанию придать мерзко, а количеством их больше 400 человек, церкви они не имеют, а имеют только по своему суеверию трапезы, где б им сгореть[4]…
Во-вторых, в показаниях очевидцев отмечена массовая исповедь. Так, один из старообрядцев, спасшихся из «гари» 1756 г. близ сибирского села Каменки, указывал на допросе в Тобольской духовной консистории:
последние минуты жизни посвящались на исповедование грехов, на общую пламенную молитву…
При этом наставник, крестьянин Данило Санников:
исповедал поодиночке всех женщин, потом мужчин всех зараз, но никого не приобщал…
После этого он ушел, а собравшиеся:
стали исповедовать свои грехи друг другу, снова стали на молитву, которая продолжалась до самого начала горения[5]…
Русские крестьяне и в этот период осознавали, что «человеку нельзя умереть без покаяния».[6] В-третьих, важной составной частью подготовки к самосожжению являлось пострижение в монашество по «раскольничьему» обряду. К XVII в. в России широко распространилась «уверенность в преимуществе монашеской жизни для духовного спасения», что особенно ярко проявилось в «обычае пострижения в монахи или в схиму незадолго до смерти».[7] По чистоте души постригающийся становился подобен схимникам или даже ангелам. Подробные сведения о пострижении в монашество, предшествующем «гари», приводит А. Т. Шашков. Он полагает, что имело место как добровольное пострижение с соблюдением всех правил, так и профанация обряда, объясняя возникновение этой традиции «мистериальной связью» между общинами самосожигателей и Соловецким монастырем, ставшим в конце XVII в. на краткое время оплотом «древлеправославной веры».[8]
Вполне возможно, что подготовительные обряды были более сложны, чем их описания, дошедшие до нас в случайных отрывках. Судить о происходящем в «згорелых домах» мы можем на основании документов, составленных руководителями «команд», посланных для «увещевания» старообрядцев, а также рапортов прочих сторонних наблюдателей. Так, например, судя по доношению в Сенат старосты Кимежской волости Каргопольского уезда, для самосожжения в 1765 г. было привезено из Чаженгского старообрядческого поселения «в грамоте умеющих для пения дватцать девок».[9] Подробности совершаемых с их участием обрядов неизвестны. Вероятно, что они принимали самое активное участие в ритуалах, предшествующих самосожжению. Материалы следственных дел о самосожжениях подтверждают парадоксальный вывод французского социолога Э. Дюркгейма: «В известном смысле, бедность предохраняет от самоубийства»[10] Погибавшие во время «гарей» люди отнюдь не принадлежали к беднейшим слоям общества, ими двигало не отчаяние, не «социальный протест», а совершенно другие мотивы. По данным следствия по делу о самосожжении, обнаруженным И. А. Черняковой, обитатели 15 дворов, добровольно принявших смерть в лесу вблизи деревни Насоновской Андомского погоста, «имели очень хорошо организованные и обустроенные дворы, в которых было все необходимое для жизни крестьянской семьи». Недалеко от этой деревни в лесу сохранилось пристанище, в котором крестьяне могли укрыться, а при необходимости — выдержать осаду. В нем имелись запасы, позволяющие жить «в течение длительного времени без контактов с внешним миром»[11]. По мнению старообрядцев-участников самосожжения, от установившейся в России власти Антихриста надлежало спасти не только как можно большее число людей, но и наиболее почитаемые, древние предметы церковного обихода. Разумеется, захват значительного количества ценного церковного имущества был возможен только в тех случаях, когда за старообрядцами оставался колоссальный численный перевес, и они могли свободно грабить приходские церкви. Первые сведения о гибели икон, книг и прочих церковных предметов относятся к концу XVIIв. и обобщены авторами «Жалобницы». По их словам, перед самосожжением в Палеострове старообрядческий наставник Игнатий,
взяв множество книг и чудотворныя иконы, и прочия церковныя вещи, и ту пожгоша сами себе вси от мала до велика их, и иконы же, и книги, и церковь пожгоша[12]…
Наиболее подробные сведения о захвате и уничтожении церковного имущества старообрядцами-самосожигателями относятся к 1693 г. и связаны с Пудожской «гарью». В июле этого года царям Ивану и Петру Алексеевичам обратились священники церкви Пудожского погоста, которые сообщили, что к ним «пришли силно <…> расколники незнаемые люди», захватили и переосвятили по-своему храм, ограбили и выгнали из погоста местных священников. Попытки прибегнуть к помощи земского старосты С. Л. Журавицкого не принесли успеха: он по неизвестным причинам «от таких воров обороны и помощи никакия не учинил и нам отказал»[13]
Царский указ предписывал собрать все имеющиеся силы, привлечь старост с понятыми, стрельцов и «обступить» старообрядцев, оберегаясь при этом, «чтоб они, воры, <…> какого дурна не учинили». В дальнейшем предполагалось «чинить о поимке над ними промысел», схватить их и «привесть к роспросу и для свидетельства на Олонец». Особое внимание обращалось на возможное самосожжение:
жечься им, ворам, отнюдь не давать[14]…
В том случае, если старообрядцы окажутся слишком многочисленными, предполагалось приступить к осаде старообрядческого поселения по всем правилам военной науки, словно речь шла о вражеской крепости:
вам бы с стрельцами и с понятыми людьми <…> стоять около того их пристанища денно и нощно, со всяким острегательством, ратным строем…
Однако стрельцов ожидал организованный отпор. Оказалось, что старообрядцы тщательно готовились к предстоящей обороне и близкой смерти. Как доносили стрельцы:
живут пудожана все в опасении, и караулы у них есть многие…
Многие из пудожских старообрядцев поселились в деревне Строкиной, в четырех избах, и готовились к самосожжению. Но перед гибелью, ощущая временное превосходство в силах, они вломились в пудожские церкви Живоначальной Троицы и Николая Чудотворца:
и кресты, которые на церквах на главах, и в церквях святые иконы водою обмывали…
После этого старообрядцы совершили крестный ход:
взяв кресты запрестольные и иконы, около тех церквей ходили, и своим воровским умыслом воду святили…
Потом наступил черед перекрещивания:
советников своих и прелестников в воде купали…
В церквах совершались богослужения по старинным правилам, которые все готовящиеся к смерти старообрядцы дисциплинированно посещали:
в те церкви, строем с ружьем, приходили, и заутрени и вечерни пели…
Наконец, наступило время, когда следовало захватить и унести с собой в «згорелый дом» церковное имущество:
с престола Евангелие и евангелисты и иные церковные книги вынесли…
Итогом всех мероприятий стало самосожжение. После подхода стрельцов:
оне де воры, зажглись вскоре и сгорели все без остатку, потому что де изготовлены были у них к тому пожегу всякие припасы, порох и солома и сено сухое[15] …
Таким образом, созданная старообрядцами система организации самосожжений была простой и эффективной. Она практически всегда приводила к гибели подавляющего большинства «насмертников». Но перед смертью предстояло совершить многое. В последние часы перед самосожжением разворачивалась заключительная сцена «огненной мистерии»: полемика с «увещевателями». Внимательное изучение процесса подготовки к самосожжению не позволяет выявить сколько-нибудь существенные межрегиональные различия: старообрядцы Европейского Севера и Сибири использовали сходные в основных чертах сценарии подготовки к массовому самоубийству. Однако существуют довольно заметные хронологические различия, связанные с постепенным снижением организационных возможностей «водителей на гари». В конце XVII в. они могли опереться на изначально готовую к радикальным действиям паству, действия которой предстояло лишь умело направить в нужное русло. Со временем, в XVIII в., толкнуть старообрядцев на радикальные действия, а тем более повести их на смерть, становилось все труднее. В арсенале старообрядческих наставников появились надежные средства, в числе которых — полемика с увещевателями, а фактически — тотальное обличение «мира Антихриста», и убеждение тех своих сторонников, кто перед лицом мучительной смерти проявлял колебания и нерешительность.
Обоснованию необходимости самосожжения отводилось заметное место. При этом на старца-наставника традиция, сложившаяся в среде самосожигателей, возлагала непростые обязанности. Он обращался практически одновременно как к своим сторонникам, так и к тем, кто по долгу службы намеревался «увещевать», а затем и захватывать собравшихся для самосожжения старообрядцев. Изучая документы, посвященные этой проблеме, невозможно отделаться от ощущения театральности всего происходящего. Такое восприятие возникает из-за того, что и обращение к сторонникам, и проклятия в адрес врагов, «слуг Антихристовых», «никониан» становились частью обряда, предшествующего самосожжению. Эти слова создавали соответствующую экзальтированную атмосферу в сообществе самосожигателей. В эти моменты старообрядцы подробно излагали свои убеждения, произносили те слова, которые, как они полагали, предстояло увековечить. Тщательная фиксация этих высказываний представителями власти, находящимися вблизи «згорелого» дома, ни у кого не вызвала сомнений. Слухи о сборе сторонников, постройке «згорелого дома», обрядах самосожигателей и предстоящем массовом самоубийстве разносились по округе довольно быстро. В литературе иногда встречается не вполне обоснованное, преувеличенное мнение о том, что «появление солдат всегда служило сигналом к самосожжению»[16], а в том случае, если «гонители» уезжали, «народ избавлялся от самосожжения»[17] В действительности, как показывают документы, приготовления к ритуальному суициду привлекали самое пристальное внимание духовных и светских властей. Но в большинстве случаев подготовка к «гари» все равно шла в обычном порядке, а власти не предпринимали попыток штурма старообрядческого здания. В некоторых случаях старообрядцы нанимали разведчиков-посыльных. Последние за определенную плату выясняли намерения властей в отношении собравшихся для самосожжения, и тем самым внезапное появление «гонителей» у стен «згорелого дома» исключалось. Для некоторых местных жителей в XVIII в. это занятие стало своего рода профессией. Так, задержанный в 1755 г. в Пудожском погосте крестьянин Иван Кондратьев во время допроса в воеводской канцелярии заявил, что он «ис тех гарей выходил по наведыванию о пришедшей команде для разорения <…>, а между онех гарей пропитание имел портным мастерством».[18] Своевременную информацию о приближающейся угрозе получили и мезенские старообрядцы в 1744 г.[19]
В то же время сохранилось незначительное число свидетельств о том, что появление «гонителей» ускорило трагическую развязку. В 1684 г. подполковник Ф. Козин сообщал царям Петру и Иоанну, что обнаруженные им в Карго-
польском уезде «церковныя расколники, послыша людей (стрельцов. — М. П.) зажглись».[20]
В 1765 г., перед самосожжением в Каргопольском уезде, староста и десяцкие Андоморецких «раскольнических жилищ» подошли ко двору одного из старообрядцев и стали «приступать и спрашивать о беглых людях». Хозяева, как оказалось, задолго до появления воинской «команды» тщательно подготовились к «гари» и ждали лишь удобного момента для совершения ритуального суицида. Они отказались отвечать на вопросы «десяцких». Вскоре двор «внутри загорелся»[21] В подавляющем большинстве случаев важной составляющей подготовки к самосожжению стала яростная полемика между представителями старообрядцев (чаще всего старообрядческими наставниками), с одной стороны, и присланными для увещевания представителями «никонианского» духовенства — с другой. Высказывания старообрядцев в такие моменты сами по себе являлись серьезным преступлением, а потому тщательно фиксировались теми, кто осаждал «згорелый дом». Так в следственных делах появилась особая составляющая — речи самосожигателей. Важно отметить, что довольно часто в ходе обмена репликами проявлялось отношение старообрядцев к Выговской пустыни — крупнейшему центру беспоповского «раскола» на Европейском Севере России. Высоко оценивая благочестие первых обитателей «общежительства», старообрядцы, как правило, были настроены резко критически к тому положению, в котором пустынь оказалась в середине XVIII в., т. е. ко времени отказа от радикальных настроений, теснейшим образом связанных с эсхатологическим мировоззрением. Как говорилось в показаниях старообрядца Ивана Кондратьева, обвинения сводились к следующему:
оные выгорецкие раскольники живут з женами, и ходят по разным городам, сообщаются и хлеб едят с протчими обывателями, а у них в собрании того ничего не бывало, и мяса не едали, и вина не пили.[22]
Суровые обвинения выдвигались в адрес «никонианской» церкви («<…> а у вас на престоле имеется Антихрист»), светских властей, отступников из числа самих приверженцев «древлих» обрядов. Так, старообрядцы, запершиеся в Троицком Зеленецком монастыре Новгородской епархии, объявили, что в настоящее время в России:
как святых церквей, так и священников никого у нас нет, тож как и государя, так и архипастырей никого не имеем, а коих хотя мы и почитаем, то де все неверные…
Далее старообрядцы перешли к критике религиозных воззрений своих противников:
о тайнах Спасителя нашего так выговаривали дерзко, то де и описать нельзя такого их злого беззакония…
Наконец, исчерпав подготовленный стандартный запас проклятий, но «не удовольствовавшись тем скверноречием», они выбросили из окна
нерукотворенной образ, которой написан на жести, сказывая, что де это не образ Спасителя, а написал сам Сатана[23]
В начале октября 1753 г. власти узнали о старообрядцах, собравшихся на речке Ентале Устюжской волости. Отправленные к построенным старообрядцами избам «рассыльщики, капеист и сержант с немалым числом отставных солдат» впоследствии доносили начальству, что им пришлось вести переговоры со старообрядцами, запершимися в «превеликой избе», стоящей на «превысокой горе». В ответ на предложение разойтись послышались угрозы. При этом:
неведомо какой раскольник с крайним поруганием и хулением на святую кафолическую церковь злым своим языком, яко пес, прелестным своим словом изблевал, чего де написать невозможно…
Требование подчиниться властям не имело успеха. Старообрядцы отвечали:
Сидим здесь числом 170 человек; переписать же нас вы не успеете, потому что близок тот час, когда престанем мы перед Христом!…
В тот же момент дом вспыхнул.[24] Очевидно, что, решаясь на страшную смерть в огне, старообрядцы стремились к избавлению от «мира Антихриста», а не к преодолению тех или иных конкретных конфликтов с местной властью. В источниках и литературе по проблемам самосожжений мне удалось обнаружить несколько свидетельств о том, что старообрядцы не вступали в полемику с «увещевателями», а просто выбрасывали им из окон специально заготовленные письма. Эти послания предназначались для передачи в органы власти и содержали более-менее подробные разъяснения о причинах готовящегося самосожжения[25] или какую-либо другую существенную информацию, касающуюся ритуального суицида. Современники событий, прежде всего сами старообрядцы, называли этот документ «сказкой». Причины появления таких наименований проанализировал акад. Н. Н. Покровский. Он полагал, что эти письма, составляемые перед самосожжениями, заменяли собой прежнюю форму обращения к властям — челобитную, поскольку:
антихристовой власти нельзя бить челом, с ней нельзя входить в любые отношения, ее можно только обличать[26]
Первый такой случай произошел в деревне Вармалей Нижегородского уезда. В 1672 г. перед «гарью» местные крестьяне представили осаждающим их стрельцам «грамотку», в которой указывалось, что причиной их отказа посещать церковь стала «перемена» веры: в храме «поют глас антихристов». Главная вина в прежних, древних трагедиях и в происходящем на Руси в данный момент возлагалась на патриарха и высшее духовенство:
А Христа кто распял? Цари да патриархи да попы. А ныне свет они ш предадут…
В сознании местных крестьян никоновские реформы отождествлялись с предательством Иуды и расправой над Христом. Окончательный вывод «сказки» свидетельствовал о решимости умереть за правое дело:
Да не боимся мы ни царя, боимся мы нашего Исуса Христа и помрем мы за веру христову и за истинный крест спасительный[27]…
Есть и другие примеры. Перед небольшим (17 человек) самосожжением в Мезенском уезде Архангельской губернии в 1744 г. старообрядческий наставник Алексей Бродягин в полночь внезапно выкинул из окна письмо. В нем наставник изложил причины несогласия с никоновскими церковными реформами. Как говорилось в документе, главной причиной несогласия с православной церковью стало троеперстие: «мы по-вашему сумнимся крестится тремя персты, крестимся мы двумя персты и того ради в ваши церкви не ходим». Далее следовали упреки в произошедшем повсеместно в России существенном для верующих изменении внешнего облика церквей: «вы возлюбили крест крыж и на церкви и прочих тайнах церковных». В заключительной части письма содержалось откровенное признание в бессмысленности полемики:
И что с вами говорить? Что вы старым книгам противитесь, а мы ваш крест проклинаем треперстный?[28]
Пока чиновники и представители духовенства, присланные для полемики и «взятия» старообрядцев, читали письмо, А. Бродягин и его сподвижники подожгли свою избу изнутри и сгорели.[29] Последний пример из перечня писем, оставленных самосожигателями, связан с 1860 г. Сгоревшие в Каргопольском уезде оставили неподалеку от места «гари» мешок, в котором следователи, в числе прочих предметов, обнаружили тетрадь. Внимательное ознакомление с записями в ней позволило выяснить последние размышления тех, кто шел в огонь:
Мы избежали от антихриста и не можем на вашу прелесть глядети, лучше в огне сгореть, чем антихристу служить и бесами быть[30]…
Отсутствие перед самосожжением обличения «антихристовой» власти характерно для тех «гарей», число участников которых было незначительным. Это объясняется низкой богословской и ораторской подготовкой участников таких самоубийств. Они, вероятнее всего, просто не были способны предъявить своим значительно более квалифицированным «увещевателям» сколько-нибудь ясно сформулированные обвинения. Так, в марте 1751 г. в Тобольской епархии сгорела вместе со своим сыном и двумя дочерьми драгунша Прасковья Неустроева. В этом же году в огне погибли крестьянин Исетского ведомства Аника Жерновников с четырьмя малолетними детьми. В обоих случаях следствие не обнаружило никаких контактов между погибшими и старообрядческими наставниками — проповедниками самосожжений. Следствие зашло в тупик еще и потому, что предавшиеся «огненной смерти» не оставили после себя никаких письменных свидетельств о причинах столь трагического поступка.[31]
Сохранились свидетельства о спокойном отношении старообрядцев к осаде и даже о сочувствии их к служилым людям, вынужденным исполнять непростые обязанности. Во время подготовки к самосожжению в феврале 1683 г. в Дорах Каргопольского уезда старообрядческий наставник Ивашко заявил присланным для захвата старообрядцев служилым людям:
Болши с того у нас с вами речей не будет никаких, подите де отколе пришли, пока целы, потому что де у нас не одной матки детки, и вы де нам люди знакомые, а что бы де приехали незнакомые, и мы б де их всех перебили, и от нас бы де они живы не уехали[32]…
Другой пример говорит о том же. Во время самосожжения в Каргопольском уезде (1754 г.) старообрядцы позаботились о сохранении жизней осаждающих:
говорили команде и понятым, чтоб отступили от избы немедленно, понеже де у них есть пуда з два пороху, что слыша и боялись (осаждающие. — М. П.), дабы и их могло от подорву пороху убить, от избы отступили…
Предупреждение оказалось весьма кстати: «только отступили, тотчас порох и взорвало».[33]
Во время самосожжения в Линдозерском погосте Олонецкого уезда в 1757 г. старообрядцы:
из окон выметали несколько барановых шуб, сермяжных кафтанов поношенных, вовсе негодных, также и холста конца с три добровольно и объявляли, что де за труд салдатом…
Неожиданный презент был принят, продан, а вырученные деньги:
употреблены при сыщецких делах на бумагу, чернила, сургуч и свечи[34]…
Перед самосожжением близ деревни Горка Олонецкого погоста в конце XVII в. собравшиеся в «згорелом доме» крестьяне
говорили, что они скорее испарятся как дым, чем пойдут в неволю, где им придется отказаться от своей веры[35]…
Эти слова стали последними: вслед за ними постройка, в которой находились крестьяне, загорелась.
Таким образом, имеющиеся источники позволяют опровергнуть существующее в литературе представление о том, что «всевозможные ругательства и брань»[36] были простым проявлением слабости старообрядцев, их неспособности оказать активный отпор осаждавшим их воинским командам. В действительности полемика с «увещевателями» стала существенным дополнением обрядов, предшествующих самосожжению. Но старообрядческий наставник в решающий момент обращался не только к врагам, «слугам Антихриста», пытающимся ворваться в «згорелый дом». У него имелась аудитория, ожидающая духовной поддержки в предсмертные минуты. Кроме обличения «слуг Антихристовых», на старообрядческого наставника возлагалась еще одна существенная роль: он должен был в последний, решающий раз убедить сторонников старообрядческого вероучения, собравшихся в «згорелом доме», в необходимости скорейшей, без отлагательств, «огненной смерти». Старообрядческие сочинения говорят об этом вполне определенно. Так, старец Пимен перед самосожжением в Березовом наволоке Шуезерского погоста (1687 г.), по утверждению Ивана Филиппова, усердно занимался приготовлением своих сторонников к скорой гибели: всех собравшихся в «згорелом доме» он:
на терпение вооружает, на мучение воздвизает, на страдание помазует[37]…
Эта миссия облегчалась существенной чертой мировоззрения русских людей в XVII–XVIII в.: страх вызывала не столько смерть, сколько муки на «том свете» — наказание за неправедную жизнь. Так, в XVIII в. среди жителей Урала «весьма традиционным являлось то, что народ боялся не смерти, а умереть без покаяния, причащения и елеосвящения».[38]
Простые богословские рассуждения о том, что жизнь в «мире Антихриста» неизбежно приведет в ад, а «огненное крещение» позволит очиститься от всех грехов и избежать загробных страданий, зачастую оказывались вполне достаточными для того, чтобы спровоцировать самосожжение. Видения «потустороннего мира» здесь, как и полемических произведениях о самосожжениях, активно использовались. Так, перед самосожжением в скиту близ деревни Березовки Тобольского уезда старообрядческий наставник Данила убеждал готовых к смерти местных старообрядцев, что:
ангелы венцы держат тем людям, которые де в той пустыне постригаются[39]…
Особенно важным средством убеждения стали ссылки на евангельский текст. Так, некий старец Иона, живший в конце XVII в., благословлял своих духовных детей «себя замаривати (голодом. — М. П.) и сожигатися», основываясь на словах Христа:
Аще кто хощет душу свою спасти, погубит ю[40]…
Очевидно, что и в XVIII в. перед любым самосожжением проблемы убеждения тех, кто страшился «огненной смерти» выдвигались на первый план. В некоторых случаях мы имеем дело с явными свидетельствами о дискуссии внутри старообрядческого сообщества, в принципе готового к гибели, но все еще не уверенного в том, что именно теперь необходимо совершить последний, роковой шаг. Так, перед самосожжением 1743 г., произошедшим в Мезенском уезде, старообрядцы, выслушав увещевания присланной от Холмогорского преосвященного комиссии, стали рассуждать о предстоящей «гари». Одни утверждали, что гореть нельзя, «понеже де они все положены в подушный оклад», и платить подати придется оставшимся в живых «бедным сиротам и вдовицам». Другие возражали: «надобно сгореть», и не верить увещевателям.[41] Но в большинстве случаев в «згорелом доме» шел не диалог двух спорящих сторон, а слышался монолог одного человека — «учителя самогубительной смерти». Начальные сведения об этой стороне деятельности старцев-наставников относятся к тому времени, когда самосожжение еще не превратилось в основную форму массовой гибели. Около 1665 г., по утверждению тогдашнего владимирского епископа Иллариона, на берегу озера Кшары (Вязниковский уезд) поселились старцы, которые, как говорилось в документе архиерея, адресованном царю, занимаются пропагандой старообрядческого вероучения:
без всякого опаства на твою благочестивую державу всякия хулы износят, и то невозможно и писанием известить, и сказывают они людям всемирную кончину в нынешнем году…
Отчаявшихся, вырванных из привычной среды людей значительно проще было подтолкнуть к самоубийству. Для агитации в пользу самосожжений использовались все доступные возможности. Наиболее ранние свидетельства об этой составляющей подготовки к самосожжению относятся к последней четверти XVII в. В 1679 г. в Тюменском уезде близ Ялуторовской слободы на реке Березовке начало формироваться старообрядческое поселение. В нем старообрядческий наставник Данила «завел пустыню и поставил часовню и кельи». Регулярно совершались богослужения: «пели вечерни и часы», но обитатели скита категорически отказывались молиться за московского патриарха и сибирского митрополита. Иногда главными действующими лицами в пустыни на первых порах становились истеричные «старицы и девки», которые словно заражали всех остальных своим фанатизмом. Они «бились о землю», и во время припадка выкрикивали, что видят:
пресвятую Богородицу и небо отверсто, ангелы венцы держат тем людям, которые де в той пустыни постригаются…
Эта проповедь возымела действие:
многие из Тарска, из Тюмени и из других городов, и Тобольского уезду из слобод и Тюменских иных городов, из уездов всяких чинов людей, оставя домы с животы свои и скот, бежали к тому старцу Даниилу в пустыню с женами и детьми, и многие постригалися…
Лишь несколько человек не поверили старообрядческому наставнику и, как говорилось далее в документе:
роззнав, что в пустыни вся прелесть от диавола, возвратились и поехали в домы свои…
Большинство прибывших остались в пустыни. Для них агитация продолжалась:
у того ж старца Даниила в келье пред иконами две черницы да две девки беснуются…
При этом они произносили обычные для старообрядцев обвинения:
злою своею прелестью, возлагают хулу на церковь Божию, и троеперстное сложение, чем православные христиане знаменуют лице свое, называют антихристовою печатью, и новоисправленных книг приимать не велели…
Особых проклятий удостаивались приходские церкви и обрядность: по словам женщин:
церкви де Божии осквернены и вся в них деетца скверная; и четвероконечный крест называют крыжем[42]…
Узнав о создании нового старообрядческого поселения, тобольский воевода П. В. Шереметев распорядился послать служилых людей «для поимания того ж вора старца Даниила с его единомысленниками». Но эта акция не принесла успеха, а все собравшиеся старообрядцы, проведав о распоряжении воеводы, предпочли погибнуть в огне:
та пустыня с людьми до их приезду сгорела[43]…
В большинстве случаев именно старец-наставник, а не его помощники, становился главным действующим лицом при планомерной подготовке к самосожжению. Его действия включали как демонстративное совершение обрядов по особым «раскольническим» правилам, без священника, так и проповедь самосожжения. Например, перед самосожжением 1693 г. в Пудожском погосте «чернец», руководивший подготовкой к самоубийству, «крестил вновь» всех приходящих к нему, не останавливаясь перед тем, чтобы совершать обряд насильственно.[44] Но самая главная его роль заключалась в проповеди: «говорил де он, чернец, всем людям, что ныне вера худая, и четвероконечный крест называет крыжем». Для того чтобы привлечь к самосожжению как можно большее число людей, старообрядческий наставник совершал регулярные поездки по окрестным деревням: «выезжая же из тое пустынки, он, чернец, людей к себе подговаривает и всячески прелщает». Наконец, негативное восприятие «никонианской» церкви выразилось в кощунственных действиях по отношению к местному приходскому храму: «в Пудожском погосте церковь вновь пересвятил <…> из церкви антиминс вынес и церкви Божии обругал».[45]
Ругательства в адрес сторонников «никонианской» церкви вообще и оказавшихся поблизости от «згорелого дома» увещевателей в частности резко контрастировали с высказываниями, призванными обосновать самосожжения в глазах тех, кто поддерживал основные идеи старообрядцев, но сомневался в необходимости принять «огненную смерть». Здесь шли в ход «словесы сладосердыя», которые «яко стрелы пронзоша сердца незлобивых»[46] Как показывают данные старообрядческих самосожжений в Сибири (конец XVII в.), готовящихся к смерти старообрядцев наставник убеждал в том, что лучше сгореть «здешним огнем», чем вечно гореть в огне геенском.[47] Перед крупнейшим сибирским старообрядческим самосожжением близ деревни Мальцевой старообрядческие наставники ежедневно устраивали общее моление для всех готовящихся к смерти людей,«после которого читали книги о горестных временах Антихриста». «Для поддержания бодрости» среди «насмертников» они^
беспрестанно и сильно внушали, что по нынешним временам, когда каждому грозит осквернение антихристовою печатью (троеперстием), горение — необходимый и неизбежный исход[48]…
На Европейском Севере России эта сторона деятельности старообрядческого лидера также прослеживается по документам. Так, в 1764 г., во время самосожжения в Троицком Зеленецком монастыре Новгородской губ., старообряд-
ческий наставник увещевал двух женщин, опасающихся мучений, следующими словами:
Огонь их не возьмет, а выйдет душа безо всего, и выйдет ангел, и на их главы венцы положит, и ладаном будет кадить[49]…
Тем, кто нуждался в детальных оправданиях самоубийства, этот же наставник охотно давал более подробные объяснения. Спасшийся в последний момент из «гари» старообрядец Павел Еремеев на допросе показал, что:
слышал от объявленного наставника своево, что священномученик Мефодий, патриарх царьградский, в житии своем написал: «Вопросит царь с мертвых дань, в тыя времена отрекутся люди православныя веры и святого крещения, и честного животворящего креста, без бою, без мук и ран. А овыя не захотят отрещись православной веры, и святого крещения, и святого Креста Господня, волею своею будут собираться и огнем сожигаться. Всякого их Господь причтет с мученики»…
Теперь, утверждал старообрядческий наставник, древнее пророчество сбылось:
оное де святой Мефодий писал на нынешнее время, ибо ныне с мертвых дань берут, потому что государь Петр Первый узаконил ревизии и когда сколко в ревизии написано будет людей, то хотя ис того числа многие и помрут, однако ж народ принуждают подати до будущей ревизии платить…
Совсем иначе поступали «благочестивые цари». Они «збирали с одних живых, а за мертвых не требовали». Но самое главное, император Петр I «оставил правую веру и старопечатные книги, а принял новообъявленные», положив тем самым основу отступничества: «и к нему многие люди преклонились без бою, без мук».[50]
В рассуждениях старообрядческих наставников в данном случае прослеживается очевидное влияние сочинений об Антихристе. Так, самосожигатели активно использовали идею о недопустимости взимания «дани» с мертвых:
лжехристос содела от гордости живущего в нем духа, учини описание народное, исчисляя вся мужеска пола и женска, старых и младенцов, живых и мертвых[51]…
Однако «водители на гари» придавали этим зловещим аргументам свою собственную трактовку. Таким образом, как пишет акад. Н. Н. Покровский, неприятие и осуждение бытовых нововведений Петра I выражалось в народной эсхатологии. Из известных верующим текстов брались предсказания о воцарении Антихриста, которые «провозглашались сбывшимися».[52] Эта общая закономерность деятельности старообрядческих наставников проявлялась и в подготовке к самосожжениям. Наконец, последний способ убеждения в необходимости «гари» заключался в описании грядущих гонений, уготованных тем, кто откажется добровольно сгореть. Так, перед самосожжением близ Чеусского острога, Томского уезда, в мае 1756 г., «управителю» острога Копьеву старообрядцы заявили:
ежели де нас не будете гонить, мы де будем жить, пока смерть Бог соизволит, а егда де на нас будет нападение хотя от трех человек, то, де нам и гонение, и предадимся огню…
Это намерение вызвало гнев старообрядческих наставников, братьев Гречениных, которые решительно возражали против отказа от самосожжения:
Что де вы от них, антихристовых слуг, слушаете? <…> Велят вам возвратится в домы по-прежнему и обнадеживают де вас, что де вам за то никакого истязания не будет…
Но на самом деле это сплошной обман:
ежели де в домы возвратитесь, то де будет вам великое мучение и розыски, и на колья вам будут садить и колесить, как де и напред сего в Таре чинено было…
В результате старообрядцы, собравшиеся в 10-ти избах, погибли в огне устроенного ими же самими самосожжения.[53]
Таким образом, гибель собравшихся в «згорелом доме» становилась в большинстве случаев неизбежной. Исследователю поэтому приходится совершить невозможное: выяснить на основе весьма скудных сведений, что происходило в предназначенной для самосожжения постройке в последние минуты перед «гарью».
Последние минуты перед самосожжением предельно драматичны, а сохранившиеся о них сведения крайне противоречивы: ситуация выбора между жизнью и смертью предельно обостряла противостояние как внутри «згорелого дома», так и вокруг постройки, в которой находились соискатели загробного блаженства. Возможность выбора отнюдь не была призрачной. В последние минуты жизни старообрядцы, готовящиеся к смерти, могли «передумать» и, как показывают источники, в некоторых случаях действительно отказывались от трагического решения. В отличие от чиновников — составителей отчетов и законодателей, старообрядческие публицисты крайне редко рассматривали тот вариант действий участников «гарей», при котором самосожжение не совершалось. И все же эта проблематика привлекала внимание следователей, результатом работы которых стало обширное делопроизводство, полное подробностей осуществления «гарей». Таким образом, у исследователя появляется возможность выявить и тот и другой вариант развития событий: отказ от «гари» и «самогубительную смерть». Крайне редко самосожжения удавалось предотвратить путем умелого вмешательства представителей местной власти. Один такой случай известен по материалам Томского края. В 1746 г. в деревне Тугозвоновой старообрядцы собрались для самосожжения. Катастрофу предотвратил специально для этой цели командированный из Кузнецка поручик Волков. Он прибыл с воинским отрядом, но спрятал своих людей в лесу. Обеспокоенным старообрядцам он объявил, что отправляется обучать драгун, а до них ему «дела нет». «Насмертники» повели себя необычным для такого рода ситуаций образом. Они, поверив офицеру, разошлись по домам. Тогда поручик с солдатами ночью «переловил зачинщиков дела — расколоучителей Терентия Бычкова и чернеца с Керженца Никодима с некоторыми из последователей. <…> Лишившиеся предводителей и товарищей раскольники присмирели и успокоились».[54]
Большинство самосожжений заканчивались совершенно иначе. Документы XVII–XVIII вв. описывают ситуацию деловым языком протокола. Чаще всего своеобразным сигналом к самосожжению становился штурм постройки, где находился наставник со своими последователями. Самые ранние свидетельства оподобного рода ситуациях относятся к 1672 г. После того, как стрельцы начали ломать двери избы, где собрались крестьяне деревни Вармалей Нижегородского уезда, самосожжение свершилось. Как говорилось в составленном по горячим (в буквальном смысле слова) следам событий, «пороху и лну у них было принесено и как у тои ызбы учали двери высекать, и оне сами себя в ызбе зажгли».[55]
.Все другие свидетельства о последних минутах жизни участников «гари» существенно различаются. С одной стороны, сохранились данные, из которых следует, что старообрядцы относительно хладнокровно ожидали смерти и проводили последние минуты жизни в молитвах. Так, во время Дорской «гари», произошедшей 7 февраля 1683 г., стрельцы, ворвавшиеся в постройку, предназначенную для самосожжения, увидели следующее:
У них де в избы солома и скалвы и береста и лну и пеньки на полу и по гряткам навешено горит, а они де з женками и з девками обнявшися, стоя шатаются и стонут, а малые де робята на ошестках и по лавкам крычат и все де стонут, а никаких речей не говорят [56]…
Аналогичная картина сохранилась в описании другого самосожжения. Во время «гари» в Троицком Зеленецком монастыре, происшедшей немногим менее столетия спустя после первых каргопольских самосожжений:
как огонь стал весьма усиливаться, то все означенные бывшие в том собрании люди от великого дыму упали в той келье на пол и говорили: «Спаси, Господи, души наши грешные»[57]…
Перед самосожжением 1756 г. близ сибирского села Каменки в Тобольской епархии старообрядческий наставник Андрей Шамаев:
в назначенный час наутре взял большой пук зажженной лучины, поджег приготовленные в сенях солому и веники и остатки огня бросил под горницу. Когда пламя охватило здание, молившиеся поклонились последний раз до земли и затем легли на пол в ожидании смерти[58]…
С другой стороны, имеются достоверные свидетельства об успешных попытках старообрядческих наставников удержать в «згорелом» доме добровольно собравшихся и в особенности насильно приведенных туда людей. Так, в доношении в адрес Синода «обретающегося у сыску и искоренения воров и разбойников» поручика Харитонова говорилось: старообрядцы
служа по расколу своему молебное пение, друг с другом прощалися, и взяв по пуку лучины с огнем и имевшее у них для скорого зажжения, которое и под потолком имелось, а именно лучина и береста, и смолье, и прочее зажгли, и при том наставник во старческом одеянии, взяв ножи и роздал прочим со объявлением тем, ежели кто из них будет к окошкам подходить и кидаться вон, то б колоть и не выпускать из той гари никово[59]…
Приведенная цитата показывает, что состав участников самосожжения неоднороден: старец-руководитель самосожжения опирался на небольшую группу наиболее решительных сторонников, которые в ответственный момент поджигания находящейся под потолком бересты должны был удержать остальных участников массового самоубийства в здании, даже путем ножевых ударов. Вполне вероятно, что помощники были нужны старцу в основном для поддержки в последний момент: по мере приближения кульминации самосожжения старообрядцев одолевал вполне естественный, инстинктивный страх смерти, который нельзя преодолеть с помощью рациональных аргументов. Это предположение подтверждается рядом доказательств. Как писал Евфросин, если бы перед началом самосожжения:
да ворота отворили, ни един бы от страха и ужаса не остался, — вси бы разбежались[60]…
На попытки старообрядцев в последний момент покинуть «згорелый дом» указывают и данные исторических исследований. Так, во время самосожжения в деревне Боранова Гора (Шведская Карелия, 1686 г.) старообрядческий наставник Пекка Ляпери «крикнул, что он сгорит вместе со всеми», надеясь личным примером удержать собранных им крестьян. Но даже это не помогло: «бывшие в избе люди бросились кто куда».[61] Некоторые историки полагают, что такое поведение типично для старообрядцев-«насмертников». Так, по утверждению П. Н. Милюкова, в ряде случаев «предприятие (самосожжение. — М. П.) откладывалось или рас вовсе».[62] Для предотвращения такого рода неудач и привлекались «неведомые люди» — спутники старца. В некоторых случаях отчаянные попытки спастись из «згорелого» дома достигали успеха. Это становилось возможным после того, как самосожжение начиналось. Чудом спасшиеся люди указывали на то, что их участие в массовом самоубийстве было принудительным. В числе сибирских самосожжений известностью среди исследователей пользуется «гарь», произошедшая в деревне Мальцевой, неподалеку от Барнаула. Одни шли в огонь из родственных чувств, других удерживали силой, и они получали возможность спастись лишь после гибели большинства самосожигателей. Так, одного из участников «гари» крестьянина Кубашева сняли с палисада после завершения самосожжения, обгоревшего и распухшего. На основании такого рода фактов историки отмечают, что далеко не все участники этого массового самоубийства разделяли старообрядческие убеждения.[63] Материалы Европейского Севера России подтверждают это предположение. Так, крестьянин Иван Губачев в 1765 г. «из дому ево отлучился от убожества хлебного и недороду для прокормления работой». Вскоре он нанялся в работники к богатому старообрядцу. Спустя некоторое время Губачев приметил, что:
показанный раскольник с собравшимися к нему неведомыми людьми, коих было человек до тритцати, начал збираться к самосожжению и начал же носить в ту избу, в которой их зборище было, солому и бересту, то он, Губачев, просился из дому вон, но оной Иванов (хозяин. — М. П.) его не выпустил[64]…
В 1755 г. «вынятой из гари» крестьянин Аким Иванов сын Мохнатин объявил на допросе, что бежал из родных мест, чтобы избавиться от рекрутской повинности, и «от нестерпения великих морозов» поселился у старообрядцев. Узнав об их смертоносных намерениях, Аким пытался спастись:
но токмо прочими бывшими в той гари людьми не выпущен был, а когда зажгли, тогда вбежав в верхние жилища, бросился из окна[65]…
Он спасся от гибели и дал детальные показания, которые помогли следственной комиссии, а затем и историкам, ставящим своей целью разобраться в обстоятельствах самосожжений. Таким образом, изучение данных о последних минутах, предшествовавших самосожжениям старообрядцев, показывает, что сообщество самосожигателей не было единым. Преодолеть сопротивление тех, кто сомневался в спасительности «огненной смерти», помогала разработанная старообрядцами технология массового самоубийства.
comments powered by HyperComments ОГОНЬ — в ветхозаветной традиции и новозаветной тоже нередко соединяется с явлением Бога, как, например, при Синае, в псалме 17 и в других книгах Ветхого и Нового заветов. Особая природа огня упоминается в книгах Ветхого завета: Бытия и Исхода. В ветхозаветные времена огонь сходил от бога и пожирал приготовленную жертву. Он снизошел с неба при освящении Скинии, и по Божьему повелению его нельзя было гасить. В новозаветном послании солунянам говорилось, что Иисус Христос во втором пришествии явится в пламенеющем огне. Сошествие Духа Святаго в день Пятидесятницы на апостолов произошло в виде огненных языков. Об явлении Кувиклии известно во всем мире. В новозаветной литературе утверждается, что последним делом огня будет кончина мира. В книгах Священного Писания слово «огонь» нередко употреблялось как метафора для обозначения великой потери или тяжкого испытания. О старообрядцах можно сказать, что они чаще читали Ветхий завет, в котором говорилось об очистительных функциях огня, и огне как способе принесения очистительной жертвы, чем Новый
ОГОНЬ — в ветхозаветной традиции и новозаветной тоже нередко соединяется с явлением Бога, как, например, при Синае, в псалме 17 и в других книгах Ветхого и Нового заветов. Особая природа огня упоминается в книгах Ветхого завета: Бытия и Исхода. В ветхозаветные времена огонь сходил от бога и пожирал приготовленную жертву. Он снизошел с неба при освящении Скинии, и по Божьему повелению его нельзя было гасить. В новозаветном послании солунянам говорилось, что Иисус Христос во втором пришествии явится в пламенеющем огне. Сошествие Духа Святаго в день Пятидесятницы на апостолов произошло в виде огненных языков. Об явлении Кувиклии известно во всем мире. В новозаветной литературе утверждается, что последним делом огня будет кончина мира. В книгах Священного Писания слово «огонь» нередко употреблялось как метафора для обозначения великой потери или тяжкого испытания. О старообрядцах можно сказать, что они чаще читали Ветхий завет, в котором говорилось об очистительных функциях огня, и огне как способе принесения очистительной жертвы, чем Новый
 ×
×
Примечание
- * Продолжение исследования Максима Пулькина «Технология» массового самоубийства: старообрядческие самосожжения в конце XVII—XVIII вв.» (см. «Огненная смерть | «гарь»)
- [1] Сырцов И. Указ. соч. // Тобольские епархиальные ведомости. 1887. № 13–14. С. 259.
- [2] Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–ХХ вв.). М., 2004. С. 40.
- [3] История Выговской старообрядческой пустыни. С. 39.
- [4] По доношению судии Новогодского архиерейского разряда архимандрита Андроника о потаенных раскольниках в Каргопольском уезде // Описание документов и дел, хранящихся в архиве
- Святейшего правительствующего Синода. СПб., 1901. С. 631.
- [5] Сырцов И. Указ. соч. // Тобольские епархиальные ведомости. 1887. № 19–20. С. 368.
- [6] Кремлева И. А. Похоронно-поминальные обряды у русских: связь живых и умерших // Православная жизнь русских крестьян XIX–XX вв.: Итоги этнографических исследований. М., 2001. С. 73.
- [7] Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. М., 1995. С. 145.
- [8] Шашков А. Т. Самосожжения как форма социального протеста крестьян-старообрядцев Урала и Сибири в конце XVII – начале XVIII в. // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 298.
- [9] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1652. Л. 9 об.
- [10] Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб., 1998. С. 283.
- [11] Чернякова И. А. Карелия на переломе эпох. Очерки социальной и аграрной истории XVII в. Петрозаводск, 1998. С. 238.
- [12] Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой литературы. «Жалобница» поморских старцев против самосожжений // Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 59.
- [13] Дело о пудожских раскольниках // Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1842. Т. 5. С. 378.
- [14] Там же. С. 380.
- [15] Там же. С. 389.
- [16] Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1983. С. 271. Аналогичной точки зрения и придерживается Е. М. Юхименко (См.: Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь. Т. 1. С. 19).
- [17] Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999. С. 115.
- [18] РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1652. Л. 28.
- [19] Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI–XIX в. Сыктывкар, 1960. С. 182.
- [20] Юхименко Е. М. Каргопольские «гари» 1683–1684 гг. (к проблеме самосожжений в русское старообрядчестве) // Старообрядчество в России (XVII—XVIII вв.). М., 1994. С. 105.
- [21] Доношение Олонецкой воеводской канцелярии правительствующему Сенату // РГ ИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 180. Л. 1.
- [22] Показания крестьянина Ивана Кондратьева на допросе в Олонецкой воеводской канцелярии //Там же. Л. 30. 436 Исследования
- [23] Рапорт Новоладожской воеводской канцелярии Правительствующему Сенату // РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2138. Л. 16.
- [24] Щипин В. И. Старообрядчество в верхнем течении Северной Двины. М., 2003. С. 10–11.
- [25] Сапожников Д. И. Указ. соч. С. 49.
- [26] Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 344.
- [27] Цит. по: Румянцева В. С. Народное антицерковное движение в России в XVIIв. М., 1986. С. 186.
- [28] Цит. по: Есипов Г. Самосожигатели // Отечественные записки. 1863. № 10. С. 626.
- [29] Там же.
- [30] Островский Д. Указ. соч. С. 419.
- [31] Сырцов И. Указ. соч. // Тобольские епархиальные ведомости. 1887. № 19–20. С. 364.
- [32] Юхименко Е. М. Указ. соч. С. 87.
- [33] Доношение Каргопольской воеводской канцелярии в Правительствующий Сенат // РГАДА Ф. 7. Оп. 1. Д. 1652. Л. 22 об.
- [34] НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 220. Л. 45–45 об.
- [35] Катаяла К. Дымом в Царствие Небесное // Выговская поморская пустынь и ее значение в истории России: Сб. научных статей и материалов. СПб., 2003. С. 33.
- [36] Пругавин А. Самоистребление. Проявления аскетизма и фанатизма в расколе (Очерки, аналогии и параллели) // Русская мысль. 1885. Кн. 1. С. 103.
- [37] История Выговской старообрядческой пустыни. С. 30.
- [38] Голикова С. В., Миненко Н. А., Побережников И. В. Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодействия и противоречия. М., 2000. С. 157.
- [39] Акты, относящиеся до раскола в Сибири. С. 216.
- [40] Мальцев А. И. Сочинения инока Евфимия как источник для изучения филипповского согласия // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996. C. 72.
- [41] Есипов Г. Указ. соч. С. 622.
- [42] Акты, относящиеся до раскола в Сибири. С. 217.
- [43] Там же.
- [44] Дело о пудожских раскольниках. С. 387.
- [45] Там же. С. 387.
- [46] Демкова Н. С. Указ. соч. С. 57.
- [47] Иванов К. Ю. Самосожжения на территории Кузбасса // Наука и образование: Материалы V Международной научной конференции. Ч. 3. Белово, 2004. С. 419.
- [48] Беликов Д. Н. Старинный раскол в пределах Томского края. Томск, 1905. С. 38.
- [49] Рапорт поручиков Овсянникова и Помогалова // РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2138. Л. 56 об.
- [50] Там же. Л. 56.
- [51] Собрание от Святого Писания об Антихристе // Петр I в русской литературе XVIII века. (Тексты и комментарии). СПб., 2006. С. 310.
- [52] Покровский Н. Н. Следственное дело и выговская повесть о тарских событиях 1722. г. // Рукописная традиция XVI–XIX в. на востоке России (Археография и источниковедение Сибири). Новосибирск, 1983. С. 49.
- [53] Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 7. М., 1890. С. 39.
- [54] Беликов Д. Н. Указ. соч. С. 36.
- [55] Цит. по: Румянцева В. С. Указ. соч. С. 186.
- [56] РГАДА. Ф. 159. Оп. 3. Д. 1945. Л. 141.
- [57] Рапорт поручиков Овсянникова и Помогалова генерал-прокурору А. А. Вяземскому // РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2138. Л. 55.
- [58] Сырцов И. Указ. соч. // Тобольские епархиальные ведомости. 1887. № 21–22. С. 399.
- [59] Доношение в Сенат обретающегося у сыску и искоренения воров и разбойников Санкт-Петербургского гарнизона Какорского полку поручика Харитонова // РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2138. Л. 27.
- [60] Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. С. 25.
- [61] Катаяла К. Указ. соч. С. 26.
- [62] Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1994. Т. 2. Ч. 1. С. 76.
- [63] Иванов К. Ю. Указ. соч. С. 423.
- [64] Доношение Олонецкой воеводской канцелярии правительствующему Сенату // РГИА. Ф. 796. Оп. 46. Д. 180. Л. 1об.
- [65] Протокол допроса Акима Иванова сына Мохнатина // РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1652. Л. 30

 Максим Пулькин
Максим Пулькин