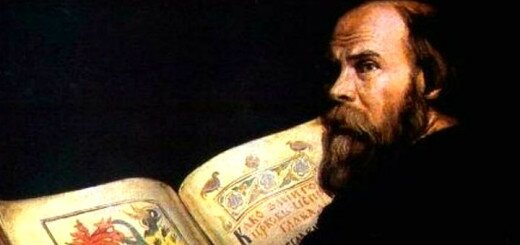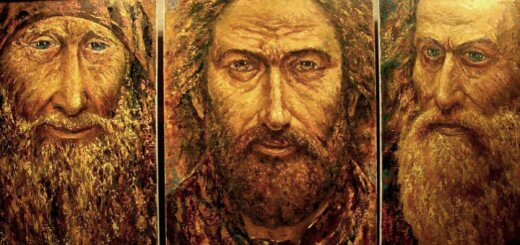Киево-Печерский патерик уже был предметом исследования русских и зарубежных филологов и историков. Он рассматривался с разных точек зрения — и как исторический источник в сопоставлении с древнейшей русской летописью, и как памятник истории языка и литературы. Основное внимание исследователей было обращено на установление его литературных источников, на изучение истории его текста, состава и соотношения его редакций.[1]
Изучению художественной структуры памятника уделялось значительно меньше внимания. Краткая общая характеристика художественных особенностей Патерика была дана И. П. Ереминым;[2] анализ элементов беллетристики в Патерике содержится в работе В. П. Адриановой-Перетц;[3] другие исследователи касались лишь отдельных проблем художественной специфики этого памятника: И. Влашек установил различия в идейной направленности главных циклов патериковых рассказов, Посланий Симона и Поликарпа,[4] Т. Н. Копреева исследовала образ инока Поликарпа,[5] Р. Поп — жанр и некоторые мотивы Киево-Печерского патерика, общие у него с переводными патериками.[6]
Изображение в Киево-Печерском патерике беса, этого своеобразного «антигероя», до сих пор не было предметом специального исследования. Между тем бесы занимают весьма значительное место в художественном мире памятника, и то, как они там изображаются, каковы их функции, — все это тесно связано с центральной в изучении древнерусской литературы проблемой, привлекающей внимание многих современных исследователей, — с проблемой изображения человека.[7]
Первым обратился к теме беса в древнерусском изобразительном и словесном искусстве Ф. И. Буслаев. Он пришел к категорическому утверждению о «скудости в художественных очертаниях злого духа» в византийском и древнерусском искусстве.[8]
Однако фундаментальное исследование Ф. А. Резановского «Демонология в древнерусской литературе», опиравшееся на широкий круг памятников, уже самим подбором материала опровергло суждение Ф. И. Буслаева: древнерусский бес «оказался очень веселым типом, проникающим во многие уголки древнерусского быта».[9]
Вместе с тем художественная природа этого образа, его место в структуре древнерусских литературных произведений не стали предметом специального исследования ни в труде Ф. А. Резановского, ни в последующих работах. Можно указать лишь на отдельные наблюдения, встречающиеся в работах современных исследователей древнерусской литературы. Неоднократно отмечалась, например, определенная роль образа беса в беллетризации житийных памятников,[10] отдельные суждения о художественной природе образа беса в Киево-Печерском патерике и в Повести о Савве Грудцыне содержатся в работах И. П. Еремина[11] и Д.С.Лихачева;[12] чешский исследователь И. Влашек отметил неидентичность изображения беса в разных «циклах» Киево-Печерского патерика — в Посланиях Симона и Поликарпа.[13]
Попытку определить художественные функции образа беса в структуре Киево-Печерского патерика, его место и роль в создании человеческих характеров и представляет собой данная работа.[14] Своеобразие беса в Киево-Печерском патерике определяется двумя моментами: его двойственной христианско-языческой природой и художественной многоликостью.
Генетическая связь киево-печерского беса с традициями изображения дьявола в византийской агиографии была установлена уже первыми исследователями памятника В. Яковлевым и Д. Абрамовичем.[15]
Традиционны наименования дьявола в Патерике и те разнообразные маски,в которых бес предстает перед печерскими отшельниками.[16] И все же под пером древнерусских авторов образ дьявола-искусителя византийской агиографии обретает новую литературную жизнь.
Вопрос о соотношении традиционных и оригинальных черт в изображении киево-печерского беса требует специального изучения. В данной статье нами отмечается лишь один из аспектов кажущейся самобытности этого образа — его большая художественная выразительность по сравнению с бесом византийских патериков.
Создание Киево-Печерского патерика в эпоху сосуществования утверждающегося христианства с остатками язычества привело к дополнению традиционного образа рядом оригинальных особенностей, связанных с русскими языческими представлениями. Позаимствовав жанровую форму у византийской литературы, создатели Киево-Печерского патерика заполнили ее пестрым материалом устных преданий и легенд. В художественном облике киево-печерского беса иногда явственно проглядывают черты разноликой языческой «нечисти», давно «обжившей» разнообразные жанры устной народной прозы: легенду, притчу, бывальщину, сказку. Еще Ф. А. Резановский отмечал, что в двух эпизодах Патерика бес живо напоминает «добродушного» героя народной демонологии — домового.[17]
Его проделки на монастырской кухне и в«хлевине, идеже скоть затворяемь», описанные в Житии Феодосия, отчетливо перекликаются с проделками излюбленного персонажа устной былички и бывальщины.[18]
Следы влияния жанра былички, устного рассказа обнаруживаются и в тех фрагментах Патерика, где с натуралистическими подробностями описываются последствия «бесовского действа» (например, в эпизоде о многолетней болезни Исаакия Печерника). В быличке и бывальщине аналогичные подробности «служат как бы свидетельским показанием, подкрепляют установку на правду».[19]
На связь византийских патериков со сказкой указывал еще И. П. Еремин.[20]
Конкретизация этого наблюдения представляется важной, так как наряду с другими видами народного поэтического творчества сказка оставила довольно мало следов в литературных памятниках периода феодальной раздробленности.[21]
В Киево-Печерском патерике следы сказки закономерно обнаруживаются именно в тех эпизодах, где бес отчетливо напоминает сказочного черта. В отличие от легенд и бывалыцин, где о нечисти повествуется «со всей серьезностью»,[22] в сказке черт рисуется «не столько страшным губителем христианских душ, сколько жалкой жертвой обмана и лукавства сказочных героев».[23]
Таким «неудачником» бес предстает, например, в рассказе о Федоре и Василии, где ему приходится молоть муку и таскать бревна на строительство монастырских келий по приказу героя.
В ряде патериковых новелл можно обнаружить даже сходство сюжетных функций образа беса с функциями сказочного «антагониста героев» (по терминологии В. Я. Проппа).[24]
Устная традиция, участвовавшая в оформлении легенд о киево-печерских иноках, придала исконно «вредительским» действиям дьявола сугубо материальные черты. Бесы Киево-Печерского патерика не только искушают праведных героев видениями. Они то врываются в их кельи скоморошьей толпой, оглушая героя своей бесовской музыкой и заставляя его плясать до полусмерти, то появляются под видом каменщиков с лопатами и заступами, угрожая закопать праведника в пещере. Иногда они мучают скот в монастырском селение наводят беспорядок в монастырском хозяйстве. В рассказах этого типа у беса те же сюжетные функции, что и у таких «антагонистов» сказочных героев, как черт, Баба-Яга, Кащей Бессмертный и т. п. Приведу несколько примеров подобных аналогий, используя классификацию и определения сюжетных функций сказочного «антагониста», предложенные В. Я. Проппом.[25]
- (Функция VI, «подвох»). «Антагонист» пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ее имуществом. В рассказах о Никите Затворнике, Исаакии Печернике, Феодоре и Василии для достижения этой цели бес прибегает к «переодеванию», появляясь перед героем в таком обличье, которое наилучшим образом скрывает его бесовскую природу.
- (Функция VII, «пособничество»). Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу. Эта функция прослеживается в тех же рассказах, в которых проявляется и функция «подвох». В каждом из них бесу удается достигнуть цели — «обмануть» героя и «овладеть» им.
- (Функция VIII, «вредительство»). «Антагонист» наносит вред герою или ущерб. Эта функция в сказке имеет несколько разновидностей. Укажем на те из них, к которым имеются параллели из Киево-Печерского патерика.
а) «Антагонист» наносит телесное повреждение (Житие Феодосия, рассказы о Ларионе, Иоанне Затворнике и др.).
б) Он околдовывает кого-либо (рассказ о Никите Затворнике); состояние, в каком пребывал Никита, находясь во власти беса, можно рассматривать как своеобразную «околдованность», ибо под влиянием бесов ского обольщения герой приобретает способности, недоступные обыкновенному человеку, например дар пророчества; бесноватый в рассказе о Лаврентии Затворнике тоже «околдован» бесом: он получает дар «вещания» на разных языках.
в) «Вредитель» расхищает или портит посев. В некотором роде аналогом к этой функции «антагониста» в Киево-Печерском патерике могут служить эпизоды из Жития Феодосия, где бес действует как домовой.
г) «Антагонист» приказывает убить (рассказ о Феодоре и Василии, где бес по сути дела толкает князя Мстислава на убийство монахов). - (Функция XVI, «борьба»). Герой и его «антагонист» вступают в непосредственную борьбу (Феодосии, Иоанн Затворник, Василий).
- (Функция XVIII, «победа»). «Антагонист» побеждается (во всех рассказах Киево-Печерского патерика, кроме финала рассказа о Феодоре и Василии).
- (Функция XXVIII, «обличение»). «Антагонист» изобличается. (Примеров множество. Во всех случаях, когда бес вводит в заблуждение героя своей маской, он разоблачается другими монахами, имеющими опыт бесовских искушений).
- (Функция XXX , «наказание»). Враг наказывается. (Примером может служить «эксплуатация» бесов отцом Феодором в рассказе о Феодоре и Василии).
Надо заметить, что приведенные аналогии выявляются только в тех рассказах Патерика, где бес предстает как непосредственно действующее лицо, как персонаж с более или менее выраженной сюжетной нагрузкой, причем использование сходных сюжетных функций происходит как бы в виде устойчивых «блоков» (используются функции VI, VII, VIII, XVI, XVIII и XXVIII, XXX).
Образ беса в Киево-Печерском патерике — образ сложный, синтетический, составляющийся в сознании читателя из отдельных качеств, которые раскрываются не только в сюжетных действиях беса-персонажа, но заявляют о себе и тогда, когда дьявол только упоминается, когда автор короткой ремаркой лишь констатирует его причастность к описываемым событиям. Эти «неперсонажные» появления беса в рассказах Патерика имеют определенное идейно-художественное назначение. Они заслуживают особого внимания и будут рассмотрены ниже. Однако гораздо больший художественный интерес представляет бес персонаж, в разных рассказах Патерика несущий разную художественную нагрузку: в одних он участвует в действии на всем протяжении повествования (например, в рассказах о Феодоре и Василии, о Исаакии Печернике), в других — только на отдельном его отрезке (в рассказе о святом Григории Чудотворце в экспозиции, в рассказах о Никите Затворнике и Иоанне —
в кульминационной точке повествования). В одних случаях действия беса описываются (например, эпизоды борьбы с бесами в Житии Феодосия), в других — изображаются (в рассказах о Феодоре и Василии, Иоанне Затворнике).
Из совокупности этих рассказов киево-печерский бес предстает перед нами вполне сформировавшимся литературным персонажем, вырастающим из традиционного образа, наделенным вполне очерченным характером, в котором отчетливо проступают следы антропоморфических представлений. На страницах Патерика бес зачастую действует как хитрый и осторожный человек. В рассказе о Никите Затворнике он не сразу появляется перед героем в выбранной для этого случая маске. Первоначально он обольщает Никиту «ангельским» голосом и чудесным благоуханием, затем, убедившись, что не опознан, решается заговорить с ним и, лишь окончательно выяснив, что герой обманут, предстает перед ним в образе ангела. Разным людям в Патерике бес вредит по-разному. В этой дифференцированности его сюжетных действий много от человеческого умения «видеть» противника, правильно оценивать его слабости и достоинства. В рассказе о Матфее Прозорливом бес усыпляет «братию», рядовых иноков, еще не достигших духовного совершенства и особенно подвластных «прельщению», прямо в церкви. Когда бес хочет навредить стойким аскетам, уже преодолевшим «бесовские мечтания», он, напротив, лишает их даже того короткого сна, который они позволяют себе для поддержания сил.
Другая «человеческая» черта киево-печерского беса — болезненное самолюбие: если он терпит поражение, то немедленно стремится всеми средствами вернуть оставленные позиции. Таков он, например, в рассказе о Григории Чудотворце, который «молитвам же паче прилежаніе, и сего ради пріать на б сы поб ду». Это и послужило внутренней пружиной подстрекательской деятельности дьявола в рассказе:
Не терпя же старый врагь прогоненіа от него (Григория, — Т. В.), не могый чимъ ин м житію его спону сътворити, научи злыа челов кы, да покрадуть его…
Дьявол в изображении Киево-Печерского патерика необыкновенно изобретателен в своих кознях. Зачастую он выступает как талантливый лицедей, умеющий не только правильно выбрать маску, в которой появляется перед героем, но и полностью войти в роль. Для достижения своих целей он не гнушается никакими средствами, порой выступая как клеветник и доносчик.
В совокупности все эти черты «характера» беса представлены, пожалуй, только в одной из патериковых новелл — о Феодоре и Василии. Бес в этом рассказе едва лине главное действующее лицо. Все основные моменты композиции рассказа внутренне обусловлены действиями именно этого персонажа. Образ беса является здесь движущим началом сюжета.
Новелла композиционно распадается на две части, построенные по одной и той же схеме: завязкой в обоих случаях служит решение дьявола отомстить за свое поражение, а последующее движение к кульминационным эпизодам рассказа все вредин поддерживается сложными ходами этого персонажа. В экспозиции рассказа, повествующей о начале дружбы двух иноков, дьявол еще не действует непосредственно, на его вмешательство в жизнь героя лишь указывается:
Многажды же смущаше того врагь, къ отчаанію хотя его привести нищеты ради истощеннаго богатьства, еже убогым вданное…
Сообщение о намерении дьявола «ину кознь» «представить» Феодору, победившему в конце концов «дьявольское наваждение», как бы переводит повествование из прошлого в настоящее. При этом сопровождается оно вполне «человеческой» мотивировкой такого решения:
Велика язва бысть діаволу, яко не възможе того богатъства им ніемъ прельстити…
На сей раз действия дьявола не только описываются: дается их изображение. В облике брата Василия бес успешно «обольщает» героя, при этом древнерусский читатель имеет возможность
пронаблюдать, как шаг за шагом происходит «прельщение» Феодора. «Зломудрый враг» действует тонко и расчетливо, стремясь не обнаружить перед героем свою бесовскую природу. Сначала для большего правдоподобия он не без ехидства осведомляется:
Феодоре, како нын пребывавши? Или преста от тебе рать бъсовъскаа. . .?..
Получив утвердительный ответ и убедившись, что маскарад удался, бес начинает искушать героя «в открытую», а когда тот пытается сопротивляться, побеждает его логикой своих рассуждений:
Печерник же рече: «Сего ради просихъ у бога, то аще ми дасть, сіе все въ милостыню раздамъ, яко сего ради и даровами». Супостатъ же глаголеть ему: «Брате Феодоре, блюди, да не пакы врагъ стужить ти раздааніа ради, яко же и прежде»…
Чтобы окончательно убедить героя уйти в мир, бес добавляет:
Можеши бо и тамо спастися и избыти бъсовскых козней…
Феодор начинает готовиться к бегству из монастыря, но план дьявола все же терпит провал. Для бесов наступают тяжелые времена: по приказанию отшельника они, «аки раби купленіи», работают на монастырскую братию. Этим «унижением» и мотивируются в Патерике дальнейшие сюжетные действия беса.
Нельзя с уверенностью сказать, как конкретно представляли себе беса создатели Киево-Печерского патерика: ни в одном из рассказов нет его словесного «портрета». Касаясь этого вопроса, И. П. Еремин писал:
Надо полагать, что представляли они (авторы Киево-Печерского патерика, — Т. В.) себе бесов так же, как древний летописец («суть же образом черни, крылати, хвосты имуще») или современные им живописцы[26]…
Для нас, однако, важнее не столько воссоздать «портрет» древнерусского беса, сколько отметить факт, что в Киево-Печерском патерике создан довольно сложный и цельный образ беса — фактически литературными средствами создан характер отрицательного героя.
Каковы же художественные функции образа беса в Киево-Печерском патерике?
В основе композиционного построения почти каждой патериковой новеллы лежит противоборство двух начал: добра и зла. Добро, как правило, облечено в традиционную для агиографии форму христианского благочестия, смирения, аскетизма. Зло многолико. Мир добра монолитен и имеет четкие границы — стены Киево-Печерского монастыря. Мир зла дробен, разноязычен, не имеет четких очертаний. Зло процветает и в княжеских палатах, и в богатых киевских домах, и в монастырских селах, проникает оно и в кельи прославленной Печерской обители. Центральной фигурой этого многоликого и мозаического мира зла в Патерике выступает дьявол. Образ дьявола — ключ к пониманию авторской концепции зла, нашедшей художественное выражение в образах и сюжетах Киево-Печерского патерика. Можно выделить две главные функции этого образа, определяемые основной идейно-художественной задачей Патерика — создать галерею идеальных образов, достойных подражания: условно назовем первую функцию функцией «контраста», вторую — функцией «адсорбции».
- «Функция контраста» проявляется в тех рассказах Патерика, где образ беса вводится в повествование с тем, чтобы создать препятствия на пути героя. Бес выступает в данном случае как универсальный носитель зла, в борьбе с которым герой обретает венец мученика (этап «испытания») и дар чудотворения (этап «победы», когда герой достигает духовного совершенства).
- «Функция адсорбции» состоит в перенесении на «антагониста» того зла, которое реально присутствует в герое и от которого он должен быть «очищен» в соответствии с требованиями агиографического жанра, опирающегося на кодекс христианской морали.
Рассмотрим, как реализуется каждая из названных функций в художественной структуре произведения. Анализируя проявление «функции контраста», мы пришли к выводу, что художественная структура образа беса в каждом конкретном эпизоде определяется прежде всего местом этого эпизода в житийной биографии героя.
Обратимся к тем рассказам Патерика, которые изображают героя на этапе «испытания». В соответствии с композиционной схемой жития, герой на пути к совершенству должен пройти «испытание» — столкновение со злом, совершить подвиг «злострадания». Отсюда сфокусированность внимания автора на изображении негативного элемента повествования.
Бес как источник зла, направленного на героя, обычно изображается в этих рассказах как персонаж, вступающий в непосредственный контакт с героем. Характер взаимодействия «антагониста» и героя при этом всегда однозначен: бес рисуется насильником и мучителем, заставляющим героя переносить физические страдания. В результате достигается главная цель повествования — создание ореола мученичества вокруг героя-подвижника. Таким мучителем бес неоднократно предстает в Житии Феодосия, в рассказах об Исаакии Печернике и Иоанне Затворнике.
Рассказ о борьбе с бесами Феодосия до момента обретения им чудесной власти над нечистой силой не развернут сюжетно. События этой части рассказа описываются ретроспективно:
Многу же скръбь и мечтаніе зліи дуси творяху ему въ печер той, еще же и раны наносяще на нь…
Когда же Феодосий за перенесенные муки получает от святого Антония «силу» на «нечестивия духы», бесы отступают не сразу, продолжая мучить Феодосия «в мечте». Подобным же образом проходит «испытание бесами» Исаакий Печерник. Интересно, что сама композиция рассказа об Исаакии способствует тому, чтобы тема мученичества прозвучала в нем предельно убедительно, заставив читателя в полной мере осознать всю тяжесть испытаний, пройденных подвижником. Исаакий начинает с того, что впадает в искушение («поклонися аки Христу б совъскому дъйству»), затем подвергается прямому насилию («И утомивше его (бесы, — Т. В.), оставиша его еле жива суща») и, наконец, как бы поднимаясь по невидимой лестнице мучений, впадает в тяжелую и продолжительную болезнь(«раслабленъ умоми т лом»). В новелле о Иоанне Затворнике дьявол не только «искушает на блуд» печерского отшельника-мученика, но и активно препятствует его борьбе с этим искушением. Из незримого подстрекателя, каким он выступает в начале рассказа, дьявол превращается в активно действующее лицо, непосредственно участвующее в происходящем. Сначала герой лишь ощущает на себе его «злодейство»:
Ноз бо мои, иже въ ям , изо дну възгор шася, яко и жилам скорчитися и костем троскотати…
Затем дьявол сам является перед Иоанном в фантастическом образе змея-дракона:
И се вид х зміа страшна и люта з ло, всего мя пожрети хотяща, и дышуща пламенем и искрами пожигаа мя…
Появление дьявола именно в этой его традиционной маске в данном случае художественно оправдано: фантастический лик дьявола-змея более всего подходил для создания наивысшего эмоционального напряжения в кульминационной точке рассказа.
В рассмотренных эпизодах дьявол-«антагонист» причиняет вред герою, не прибегая к помощи других персонажей. Однако иногда взаимодействие «антагониста» и героя происходит в Патерике через «посредника». При этом бес теряет черты персонажа. На его причастность к описываемым событиям в таких случаях указывает лишь условная словесная формула-сигнал, а функция «антагониста» передается персонажу-посреднику. Однако тенденция конкретизировать зло, облекать его в убедительную художественную форму сохраняется. Выражается это в том, что персонажи, действующие по наущению дьявола, не превращаются в бездумных марионеток.Это люди с живо очерченными характерами, раскрывающимися в ходе развития сюжета. Таких персонажей-«посредников», действиями которых «руководит» бес, в Патерике несколько. Один из них давно уже привлекал внимание исследователей[27] — это образ матери Феодосия, отражающий всю сложность и противоречивость ее человеческой личности. Мать — первый человек, который воздвигает препятствия на пути Феодосия. Ее деспотизм по отношению к сыну почти на всем протяжении повествования мотивируется вполне естественными человеческими чувствами: любовью, страхом, жалостью, боязнью насмешек и пересудов. Однако в трактовке автора-агиографа за всем этим стоит все тот же неизменный образ подстрекателя-дьявола:
Но врагь не почиваше, остря ю на възбраненіе отрока о таков м смиреніи его…
То же переплетение реальной и фантастической мотивировок поведения персонажа-«посредника» можно наблюдать и в рассказе о Моисее Угрине. Герой предстает здесь жертвой «преступной» любви к нему молодой женщины. О том, что ее действиями руководит «враг-искуситель», мы узнаем из лаконичного комментария, сопровождающего очередной поступок героини: «И на другый съв тъ діаволь приходить». При этом образ влюбленной женщины, так же как и образ матери Феодосия, не теряет своей жизненной полноты и конкретности.
В рассказе о Феодоре и Василии бес расправляется с героями руками князя Мстислава. Интересно, что сама по себе тяга князя к «злату» остается без всякой мотивировки дьявольскими «наущениями». Бес лишь направляет «природные склонности» Мстислава в нужное русло, сообщая ему о возможности приобрести богатство путем насилия. Выбор князь делает сам. Иным предстает киево-печерский бес в эпизодах «побед» героя, достигшего духовного совершенства и получившего в награду за перенесенные
испытания дар чудотворения. Главная задача таких эпизодов — доказательство этого факта серией назидательных чудес. В силу этого смещаются и аспекты в изображении двух взаимодействующих полюсов — добра и зла. Главный акцент повествования переносится на героя, а бес, исчерпав функцию «исходатая венца»,[28] превращается в «подстрекателя», введение которого в ткань повествования создает сюжетную канву для очередного назидательного чуда. В этих эпизодах бес редко выступает как персонаж: его образ лишь просвечивает в сюжетных действиях многочисленных злодеев, над которыми одерживает победу герой — уже не просто подвижник, но святой. Персонажи-«посредники» в этих рассказах Патерика теряют свою художественную самостоятельность. Они не имеют ни имени, ни сколько-нибудь обозначенного характера. Это, как правило, безликие разбойники, «злыа человекы», «мнозии несмыслении».
В Житии Феодосия дважды рассказывается о попытках подобных злодеев, подстрекаемых дьяволом, ограбить монастырское село и саму Печерскую церковь. Оба эпизода завершаются назидательным чудом, совершающимся по молитве Феодосия: в одном случае разбойники видят «град высок зело» вокруг села и отступают, в другом — церковь со всей находящейся в ней братией поднимается на воздух. С той же целью — показать обретенную героем силу чудотворения — вводится образ беса и в рассказ о святом Григории Чудотворце. Здесь функции его столь же определенны — вызвать к жизни зло, над которым чудесным образом будет одержана победа. «Злыя человекы», трижды пытающиеся ограбить Григория, столь же безлики, как и разбойники в Житии Феодосия. Однако иногда в эпизодах, описывающих «победу» героя, встречаются случаи, когда бес действует, не прибегая к посреднику, но образ его по сравнению с рассказами, описывающими период «испытания» героя,в этих эпизодах значительно снижен, в облике беса проступают черты фольклорных персонажей: домового былички или сказочного черта-неудачника.
Обратимся теперь к тому повествовательному материалу, который дает возможность определить принципиально иную функцию образа беса в Киево-Печерском патерике — «функцию адсорбции». Эта функция прослеживается в тех рассказах Патерика, которые запечатлели теневые стороны монастырского быта. Бес появляется почти во всех эпизодах, фиксирующих неблагополучие в нравственном укладе монастыря. Всякий раз, когда описывается какое-либо нарушение монастырского устава, в повествование вводится бес: то как персонаж, то как незримый подстрекатель. Бесу в Патерике приписываются самые разнообразные грехи монастырской братии: неурочный сон во время церковной службы (рассказ о Матфее Прозорливом), беспричинная взаимная ненависть духовных братьев (рассказ о Тите попе и Евагрии дьяконе), уклонение от молитвы (рассказ о Никите Затворнике), бегство из монастыря, лицемерие и ложь, нежелание покаяться в содеянном проступке (Житие Феодосия).
Зафиксировал Патерик и бунтарские настроения внутри монастыря. Изгнание игумена Стефана в трактовке автора Жития Феодосия — прямое следствие вмешательства дьявола:
Такова смятеніе сотона сътвори въ них…
«Дьявольским начинаниям» приписывает епископ Симон в своем «Послании» и честолюбивые устремления Поликарпа, его неудовлетворенность своим положением в монастыре. Особенно серьезным грехом в стенах монастыря считался грех «сребролюбия». Теме трагической власти богатства над душой человека в Патерике посвящено несколько рассказов. И везде моральная ответственность за содеянное зло переносится с героя (будь то монах или мирской человек) на плечи универсального носителя зла — дьявола. Обычно достигается это введением в текст рассказа фразы, приобретающей характер клише:
Уязвен бывь на нь от беса…
Исключение представляет рассказ о Феодоре и Василии, в котором бес является не просто персонажем, но главным действующим лицом. В этом рассказе благодаря введению образа беса автору в полной мере удается задача перестановки акцентов в повествовании о греховных заблуждениях Феодора. И само построение рассказа, и та художественная нагрузка, которую несет в нем образ беса-искусителя, способствуют тому, чтобы в образе Феодора предстал не слабый и нерешительный человек, плененный призраком богатства, но скорее трагическая жертва хитроумных козней сатаны. Бес в этом случае изображается изощренным и тонким соблазнителем, использующим такие маски, в которых его труднее всего разоблачить. Выбор их, как и в рассказе об Иоанне Затворнике, вполне мотивирован: образ монаха Василия — друга Феодора и ангела «светла же и украшена» — наиболее убедительные для героя-отшельника обличья беса. Автор как будто стремится убедить читателя, что человеку, попавшему во власть столь хитроумного и талантливого искусителя, следует скорее сочувствовать, чем обвинять его в греховных мыслях и поступках. В этой группе рассказов ощущается явное противоречие между авторской трактовкой образов и их объективным содержанием, открывающимся современному читателю.
Те герои, которые кажутся слабохарактерными, злыми, мстительными, вздорными, а иногда и просто порочными людьми, по замыслу создателей Киево-Печерского патерика не только не достойны осуждения, но, напротив, должны вызывать сочувствие и сострадание. Это наблюдение снова возвращает нас к образу беса, ибо наличие в арсенале художественных средств создателей Киево-Печерского патерика именно этого образа сделало возможным существование столь психологически сложной авторской трактовки далеко не безупречных героев. Образ беса в данном случае как бы адсорбирует, вбирает в себя то зло, которое присутствует в герое и от которого автор стремится его «очистить», ибо он, как всякий средневековый писатель:
смотрел на людей далеко не простым глазом. Его глаз был вооружен особой оптической системой, которая вводила изображаемых им людей и их поступки в оценочное суждение, подчиняла их его идеалам[29]…
Созданию такого «оценочного суждения» способствовали и те художественные функции, которые выполняет в Киево-Печерском патерике сложный и многоликий образ беса.
 КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК — сборник произведений об истории Киево-Печерского монастыря и первых его подвижниках. Патерик оказал определяющее влияние на развитие жанра «патерика» в древнерусской литературе: под его воздействием были составлены патерики Волоколамский, Псково-Печерский, Соловецкий. Основой Киево-Печерского патерика послужили написанные в 20-х гг. XIII в. послание владимирского епископа Симона, бывшего монаха Киево-Печерской лавры, к иноку этого монастыря Поликарпу, его же повесть о истории построения Печерской Успенской церкви и послание Поликарпа к игумену монастыря Акиндину. Поводом, положившим начало переписки было стремление Поликарпа к епископскому сану. Симон, написал Поликарпу укоризненное послание, которое сопроводил девятью рассказами о подвигах иноков и рассказом о чудесах, связанных с историей построения церкви в монастыре. Позже к этому посланию Симона было присоединено послание Поликарпа (возможно, самим автором), в котором также приводилось одиннадцать историй из монастырской жизни. Источниками для этих рассказов послужили устные предания, монастырские записи XI в., жития основателей монастыря преподобных Антония и Феодосия. В XIII же веке к посланиям Симона и Поликарпа было присоединено «Слово о первых черноризцах печерских» (Демьяне, Иеремии, Матвее и Исакии) из «Повести временных лет». В 1406 г. в Твери была создана так называемая Арсеньевская редакция патерика, а в 1462 г. в самом монастыре составлена редакция, получившая название Кассиановской
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК — сборник произведений об истории Киево-Печерского монастыря и первых его подвижниках. Патерик оказал определяющее влияние на развитие жанра «патерика» в древнерусской литературе: под его воздействием были составлены патерики Волоколамский, Псково-Печерский, Соловецкий. Основой Киево-Печерского патерика послужили написанные в 20-х гг. XIII в. послание владимирского епископа Симона, бывшего монаха Киево-Печерской лавры, к иноку этого монастыря Поликарпу, его же повесть о истории построения Печерской Успенской церкви и послание Поликарпа к игумену монастыря Акиндину. Поводом, положившим начало переписки было стремление Поликарпа к епископскому сану. Симон, написал Поликарпу укоризненное послание, которое сопроводил девятью рассказами о подвигах иноков и рассказом о чудесах, связанных с историей построения церкви в монастыре. Позже к этому посланию Симона было присоединено послание Поликарпа (возможно, самим автором), в котором также приводилось одиннадцать историй из монастырской жизни. Источниками для этих рассказов послужили устные предания, монастырские записи XI в., жития основателей монастыря преподобных Антония и Феодосия. В XIII же веке к посланиям Симона и Поликарпа было присоединено «Слово о первых черноризцах печерских» (Демьяне, Иеремии, Матвее и Исакии) из «Повести временных лет». В 1406 г. в Твери была создана так называемая Арсеньевская редакция патерика, а в 1462 г. в самом монастыре составлена редакция, получившая название Кассиановской
 ×
×
Примечание
- Источник: Волкова Т. Ф. Художественная структура и функции образа беса в Киево-Печерском патерике. — ТОДРЛ, 1979, т. 33, с. 228–237.
- [1] В.А.Яковлев. Древнекиевскпе религиозные сказания. Варшава, 1875; А. А. Шахматов. Кнево-Печерский патерик и Печерская летопись.— ИОРЯС, 1897, кн. 3; Д. И. Абрамович . Исследование о Кпево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902.
- [2] И.П. Еремин. Киево-Печерский патерик.— В кн.: Художественная проза Киевской Руси XI —XIII вв. Л., 1957, с. 317—322.
- [3] В.П. Адрианова-Перетц. Сюжетное повествование в жптийных памятниках XI—XIII вв. — В кн.: Истоки русской беллетристики. Л., 1970, с. 96—107.
- [4] J.V1asek. Dablave a knizata v Kyjevopeterskem pateriku.— Ceskoslovenska rusistika, l')72, XVII, 1, s. 18—23.
- [5] T.H.Копреева. Образ инока Поликарпа по письмам Симона и Полпкарпа.— ТОДРЛ, т.XXIV. М.—Л., 1969, с. 112—116.
- [6] Р. Поп. О характере и степени влияния византийской литературы на оригинальную литературу южных и восточных славян: дискуссия и методология.— American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. August 21—27, 1973. Vol. II. Literature and Folklore. Warsaw, 1973, p. 469—493.
- [7] Я имею в виду прежде всего следующие работы: И. П. Еремин. Новейшие исследования художественной формы древнерусских литературных произведений. ТОДРЛ, т. XII. М.—Л., 1956, с. 284—291; Д. С. Лихачев . Изображение людей в житийной литературе конца XIV—XV века. — Там же, с. 105—115; В. П. Адрианова-Перетц . К вопросу об изображении «внутреннего человека» в русской литературе XI—XIV вв.— В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX вв. М.—Л., 1958, с. 15—24; Д. С. Лихачев . Человек в литературе Древней Руси. Изд. 2-е. М., 1970.
- [8] Ф. И. Буслаев. Бес— В кн.: Мои досуги, т. 2. М., 1886, с. 7—8.
- [9] Ф. А. Резановскиq. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915, с. 125.
- [10] Б.А.Романов. Люди и нравы Древней Руси. Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. Изд. 2-е. М.—Л., 1966, с. 156; И. П. Крем и н. 1) Лекции по древне русской литературе. Л., 1968, с. 34; 2) Истоки р сскоіі беллетристики. Л., 1970, с. 234—237.
- [11] И.П. Еремин. Лекции по древнерусской литературе, с. 34—35.
- [12] Д. С. Лихачев . XVII век в русской литературе.— В кн.: XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969, с. 308.
- [13] J. Vlasek. Dablave. . ., s. IS-23.
- [14] Мною используется текст изд.: Д. И. Абрамович . Киево-Печерскпй патерик-. У Киеві, 1931.
- [15] См. выше, примеч. 1.
- [16] Ф.А. Резановский. Демонология в древнерусской литературе, с. 43-49.
- [17] Там же, с. 40—41.
- [18] О домовом как герое устной несказочной прозы см.: С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903, с. 30—43; Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975, с. 92—117.
- [19] Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи., с.143.
- [20] И. П. Еремин . Лекции по древнерусской литературе, с. 31.
- [21] Д.С. Лихачев.Народное поэтическое творчество в годы феодальной раздробленности Руси — до татаро-монгольского нашествия (XII—начало XIII в.).— В кн.: Русское народное поэтическое творчество, т. 1. Очерки по истории русского народного поэтического творчества X—начала XVIII в. М.—Л., 1953, с. 244.
- [22] Э.В.Померанцева. Мифологические персонажи., с. 109.
- [23] А.Н.Афанасьев.Народные русские легенды. Изд. 2-е. М., 1914, с. 168.
- [24] В.Я.Пропп. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969, с. 31.
- [25] Там же, с. 32—59. Трактовка изображения беса в древнерусской литературе в связи с функциями Проппа была рассмотрена на материале Повести о Савве Грудцыне в статье И. П. Смирнова «От сказки к роману».— ТОДРЛ, т. XXVI. Л., 1972, с. 290—304.
- [26] И. П. Еремин. Лекции по древнерусской литературе, с. 95. Данные Повести временных лет в этом случае особенно важны, так как Киево-Печерский Патерик имеет с ней сходство не только в отдельных образах, но и в целых рассказах о первых печерских иноках (о Дамиане, Иеремее и Матфее Прозорливом).
- [27] См. например: И. П. Еремин. К характеристике Нестора как писателя.— В кн.: И. П. Еремин. Литература Древней Руси. М.—Л., 1966, с. 30—34; А. П. Адрианова-Перетц . Сюжетное повествование. . ., с. 97.
- [28] В рассказе о Феодоре и Василии лаконичная авторская ремарка прямо опре деляет сюжетную функцию беса. Приступая к рассказу о трагической гибели героев, автор замечает: «Не в дый діиаволъ, яко болъшюу в нцю исходатай будетьима».
- [29] Д.С. Лихачев.Изображение людей в летошіси XII—XIII вв.— ТОДРЛ, т. XXIV. М.—Л., 4969, с. 30

 Татьяна Волкова
Татьяна Волкова