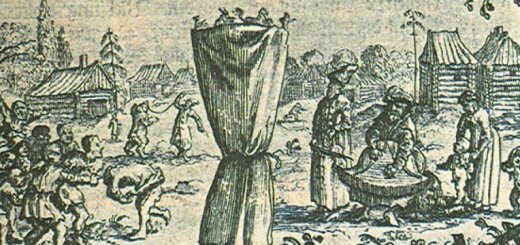Идея апокатастасиса[1], признанная ересью на V Вселенском соборе и преданная анафеме[2], обрела совершенно особое бытиё как в русском православие, так и русской философии. Безусловно, для канонической святоотеческой традиции стало постулатом, то что:
чем именно служит для людей смерть, этим для Ангелов служит падение. Ибо после падения для них невозможно покаяние, подобно тому как и для людей оно невозможно после смерти[3]…
Но, в тоже время, русские народные предания и отдельные личные озарения этот постулат часто подвергали сомнению, переосмыслению, прямому отрицанию. Все эти моменты, на мой взгляд продиктованны ничем иным, как острым и исключительно русским утверждением себя в мысли, что Господь есть Слово Живое, милосердное (подвижное, непредсказанное и невозможное в человеческом разрешение) и отрицанием Его, как буквы определённой, зафиксированной, жёсткой, неумолимой. Говоря о подвижности и неразрешимости Бога в русском православие, и об отрицание его безусловной «неумолимости» я имею ввиду то, что обозначено, как:
и сказал Господь «могу прибавить, а могу и убавить»…
Темой этой статьи является именно народные представления, а потому об учение апокатастасиса в русской философии я упомяну лишь вскользь. Пожалуй здесь ярче всех заявил о своём сомнение в невозможности апокатастасиса С. Н. Булгаков. Утверждая, что само решение Константинопольского собора есть лишь «одно из богословских мнений», а не «обязательный догмат Церкви», о. Сергий в заключение «Невесты Агнца», утверждает неизбежное возвращении сатаны к Богу, которое «необходимо соединяется с началом его раскаяния». Согласно Булгакову сатана постепенно осознаёт свою тварность, мучается вспоминанием о своем прежнем состоянии внутри Господа, и в конце концов доходит до покаяния:
И эта неведомая человекам мука покаяния духов бесплотных наполняет «веки веков», безмерное для человечества время. <…> Но оно все же ограничено в длительности, имеет свою полноту и кончается вместе с мучениями раскаявшегося сатаны, который на протяжении этих «веков веков» возвращается к тому, для чего он был сотворен. Быть верховным архангелом, Денницею, — таковым призвал его к бытию Творец…
Говоря о «народном размышление» над возможностью «прощения беса» исследователи чаще всего упоминают так называемую «Повесть о Зерефере» (переводное византийское патериковое сказание). По сюжету этого сказания нечистый дух является некоему праведнику в образе человека и говорит о себе как о великом грешнике, который стремится получить прощение:
Аз, отче святый, нѣсмь человѣкъ, но бѣс, якоже мню множества ради безаконии моих. <…> Не о ином молю тя, отче святыи, развѣ да помолиши Бога прилѣжно, яко да обьявит, аще приимет диавола в покаяние. Да аще оного приимет, то и мене приимет, подобна тому дѣла сотворшу…
Божьим промыслом праведник не видит истинную сущность гостя и молит Бога о милости. Во время молитвы с Небес является ангел и открывает правду. Праведник поражен, но ангел научает его, что сказать сатане: для того, чтобы получить прощение, дьявол должен три года стоять на одном месте, смиренно моля Господа о пощаде, называя себя древней злобой, «мерзостью запустения» и помраченной прелестью:
Боже, помилуй мя, древнюю злобу! <…> Боже, помилуй мя, мерзости запустѣниа! <…> Боже, спаси мя, помраченую прелесть!..
Только тогда бес обретет прощение и «сопричтется со ангелы». Бес является на следующий день и, услышав, что нужно делать для спасения, смеется, предпочитая призрачную власть над миром трудному возвращению на Небеса:
Никако, калугере! Ни, не буди то, яко да аз в таковое безсчестие себе вложу!..
Данная повесть, как мы видим существует в полном согласие с постулатом о невозможности «беса прощения», невозможности не от жестокости Господа, а по причине непроходимой и неизлечимой гордыни беса. А так же, что есть первичная причина — искупить грехи можно лишь во плоти, которой по своей изначальной природе лишены духи, и тут, как переводит Вассиан Рыло[4]:
Человечьско бо еже согрешати, рекше падати, и покаанием возстаати, аггельское же не падати, бесовское же не возстаятии отчаятися…
Однако, как и в старообрядческих преданиях, так и в «простом» народе мы встречаем совсем иное разрешения данного сюжета. Приведём некоторые примеры:
- Согласно «Повѣсти, како единъ бѣсъ прииде в покаянии»[5] — бес, явившийся к некоему пустыннику в образе льва, чтобы «устрашити» и «прельстити» его, после беседы со старцем кается в своих грехах и ради своего спасения называет себя «древней злобой», «омраченной лестью» и «мерзостью запустѣния». Он не стыдится своего смирения, «не якоже иногда Зереферъ лестно приходя к старцу, искушая, вопрошаше его» — покаяние «не мерзско» ему, но «сладко и радостно» Старец заставляет беса «воспѣти» еще «пѣснь херувимскую». Именно после этого к бесу «слѣтѣша два ангела, даша крилѣ ему и бѣлое одѣяние снесоша с небесе и взяша на небо предстояти Святѣй Троицѣ»;
- В предание приведённом Д. Садовниковым[6] о «чёрте который ангелом стал» — старшие черти дали младшему задание сотворить некую пакость, а том не захотел. И боясь, что будет теперь наказан «железными прутьями» взмолился Богу: «Господи, коль ты меня от железных прутьев избавишь, никогда больше пакостничать не буду». Бог его и не оставил: спрятал чертенка в церкви, под плащаницу. Черти его и не могли найти, бросили искать. Стал после этого чёрт ангелом, и возрадовались и на небе, и на земле;
- В легенда из «Великого Зерцала»[7], «Познавши славу небесную диавол до дне суднаго хотяше каятися, аще бы попущено ему было» — бес вещает из чрева бесноватой, что ради возвращения на небо, «аще бы имел тело человеческое, им же бы терпети могл», готов был бы по раскаленному железному столбу с острыми шипами от земли до неба «дручен быти» до самого Судного дня;
- В Одном из переведённых с польского и переосмысленных сказаний[8] — собравшись после падения с неба на совет в преисподней, бесы обсуждают план своих дальнейших действий. Бес Фалер предлагает своим товарищам отправить на небо посольство и принести покаяние перед Богом: «…послы выбрати изрядныя и премудрыя и послати сихъ к Богу и Отцу, создателю нашему, просити со смирениемъ и покорениемъ, да отпуститъ намъ преступление наше и достойное покаяние да возложитъ на ны и уставитъ к довлетворению. И мы, еже противу Творца нашего воли да престанемъ, и, тако мню, яко в первую нашу честь к хвалѣ своей и въ жителства наша прииметъ». Однако бесы с гневом отвергают совет Фалера, объявляют его изменником и изгоняют из своего сонмища.
Говоря об «уникальной вариативности» сюжета о бесопокаяние, А.В. Пигин предлагает следующую классификацию:
- мнимое покаяние как средство ввести праведника в грех гордыни;
- обсуждение самой возможности покаяния дьявола и отрицание ее;
- мечта беса о спасении, но нежелание смириться;
- невозможность претерпеть физические страдания как условие спасения и Божий запрет на возвращение дьявола на небеса;
- состоявшееся покаяние.[9]
При этом А.В. Пигин особо отмечает, что вариант «состоявшегося покаяния» возможен лишь в случае искреннего и полного желания нечистого (заметим, что о том же по своему говорит и о.Сергий Булгаков в «Невесты Агнца»), ибо:
При всей безусловной ценности и важности наблюдений и выводов А.В. Пигина, он, однако, в своей работе игнорирует ещё один вариант данного сюжета, наличие которого заставляет думать, что пункт пятый в предложенной классификации некоторым образом двоится. Я веду речь о сюжете, представленным, в частности А.Н.Афанасьевым (так же есть у Бурцева):
Заспорил пустынник с чертом:
Не влезешь-де ты, окаянный, в орех свистун (свищ)!..
Черт расхвастался и влез. Вот пустынник давай его крестить.
Пусти! — закричал нечистой,— пожалуйста, пусти! Меня огнем жжет! — «Выпущу, коли пропоешь ангельские гласы!» — «Не смею,— говорит нечистой,— меня разорвут за это наши!» — «Одначе пропой!»
Что делать? Согласился черт; вот выпустил его пустынник на волю, сам пал на колени и зачал Богу молиться, а нечистой запел ангельские гласы: то-то хорошо! То-то чудесно! Вишь, чертй-то прежде были ангелы, оттого они и знают ангельские гласы. Как запел он — так и поднялся на небо: Бог, значит, простил его за это пение.[10]
Итак, в приведённом выше варианте мы видим, что необходимость добровольного покаяния для бесопрощения, совершенно не является обязательной. Более того, бесёнок откровенно сопротивляется возможному спасению, но однако его обретает. Вынужденное «ангельское пение», как неосознанное покаяние, становится выше и важнее покаяния сознательного. И в этом на мой взгляд скрывается некая тайна, заповедность обитания там где «и сказал Господь «могу прибавить, а могу и убавить».
Некоторой перекличкой с этим преданием безусловно является ещё одна русская народная трактовка «ангелической темы». Я говорю о достаточно известной «Повести об ангеле, ослушавшемся Бога» (вариант Сказание об Ангеле Симе)[11]: Женщина рождает в лесу двух младенцев и кормит их грудью:
то же время посла Господь с Небеси ангела своего и повеле душу ея взятии ис телеси. Ангел же Господень прииде и стоя, размышляя и глаголя: «Воля пославшаго мя, а не моя. Како аз разлучю душу от сея роженицы, понеже в пустыни сеи, а сия младенцы скверны и не крещены?»
Пока посланный Богом дух размышляет, сомневаясь в праведности повеления Всевышнего, является второй Небесный посланник и совершает предначертанное; младенцы, несмотря на сомнения «жалостливого» духа, обретают спасение благодаря ниспосланному чуду. Вслед за этим непослушанием ангел лишается своего чина и становится монахом, уходит в монастырь и тридцать лет трудится. И вот через тридцать лет Господь, услышав как поёт он «гласом ангельским» вновь дарует ему утерянный чин, и дух возвращается на Небеса…
Помимо сходства выражения покаяния через «ангельское пение», это сказание, переосмысливает тему «необходимости телесности» для покаяния. Воля (равная в русском православие милосердию) Господа выше постулата:
аггельское же не падати, бесовское же не возстаятии отчаятися…
Следует заметить, что во всех приведённых сказаниях бес тоже более чем обладает плотью, именно его плотскость позволяет то заключить его в орех, то наказать и тд. Д.И.Антовов полагает, что мы имеем дело с тем феноменом 17 века, какой стал следствием глубокого духовного кризиса, когда:
Форма и содержание оказались резко разведены, изменения вторглись в область важнейших оснований древнерусской культуры[12]…
Именно это и породило, по мнению Антонова то, что:
бес «материализуется», получает плоть.., причем речь не идет о призрачных мечтаниях: описывается реальное пространство, заселенное демонами. Произошедшее изменение принципиально: «бытию несуществующему, иллюзорному, придается статус материального объекта», нечистый дух материализуется в плотском, земном мире»…
Наблюдения Антонова во многом безусловно верны, но верна ли его трактовка того, что данная«материализация бесов» есть некая деградация старой веры? Может допустимо подумать тут о том, что перед нами некий парадокс, где как раз сопротивляясь навязанному чужеумию, народные предания в своей трактовке возможности апокастасиса становятся истинным свидетельством русского православия? Не предлагая однозначного ответа на этот вопрос я лишь озвучиваю его к осмыслению.
И последнее, самое важное — что же именно даёт возможность ангелу Симу обрести человеческую плоть, а бесу вроде бы нежеланное им самим спасение? На основание чего народное сознание выстраивает свою апологию апокатастасиса? Принято ссылатся на «остатки языческих представлений». На мой взгляд это в корне неверно, и, на самом деле, перед нами отголоски абсолютно русского прочтения, постижения и осмысления чуда Боговоплощения, и его значения, как прихода Второго Адама, Богочеловека во всех смыслах этого слова, дающего возможность снять проклятие и воплотится всему, ибо:
и сказал Господь «могу прибавить, а могу и убавить»…
 ВАСИЛЕНКО, Татьяна Викторовна (25.07.1975, Москва) — образование незаконченное высшее: два года кафедра античной филологии, РГГУ; два года кафедра русской филологии. Опубликованны две книги по мифологии Тибета, детская повесть-сказка, фрагменты фольклорно-этнографического исследования «Вороновские житьки», а так же ряд культурологических статей
ВАСИЛЕНКО, Татьяна Викторовна (25.07.1975, Москва) — образование незаконченное высшее: два года кафедра античной филологии, РГГУ; два года кафедра русской филологии. Опубликованны две книги по мифологии Тибета, детская повесть-сказка, фрагменты фольклорно-этнографического исследования «Вороновские житьки», а так же ряд культурологических статей
 ×
×
Примечание
- [1] Апокатастасис — учение о всеобщем спасении. Было создано двумя богословами древности — Оригеном и Григорием Нисским. Зло, согласно этому учению, не является реальностью, поскольку не может происходить от Бога, оно есть лишь отсутствие добра, а потому не вечно. Идея апокатастасиса не была принята православной церковью. Дело в противоречие, в которое вступала она со словами Писания о вечности адских мук. Однако, одним из обоснованием апокатастасиса може служить, то, что в древнееврейской Книге Еноха рассказывается о падших ангелах, заключенных на втором небе, которые просят Еноха молить Бога об их прощении.
- [2] «Если кто [говорит или держится мнения], что наказание демонов и нечестивцев — временное и будет иметь после некоторого срока свой конец, т. е. что будет восстановление (апокатастасис) демонов и нечестивых людей, — анафема».
- [3] преподобный Иоанн Дамаскин.
- [4] Архиепископ Вассиан Рыло (первая треть XV века — 23 марта 1481) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский. Прославлен в лике святителя.
- [5] Скитский патерик.
- [6] Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны Д. Н. Садовниковым. Вып. 1—2. Самара.
- [7] Великое Зерцало — русский перевод западно-европейского сборника рассказов религиозно-моралистического характера.
- [8] цитируется по Пигин А.В, «Древнерусская легенда о «кающемся бесе» (к проблеме апокатастасиса)».
- [9] там же.
- [10] Записана в Воронежской губернии, Бобровском уезде.
- [11] Сохранилось в списках ХVІІІ — ХІХ вв., однако создано, по мнению исследователей, в конце XVII в.
- [12] Д.И. Антонов «Безобразные образы»: эволюция представлений об ангелах и демонах в русской культуре XVII в»

 Татьяна Василенко
Татьяна Василенко