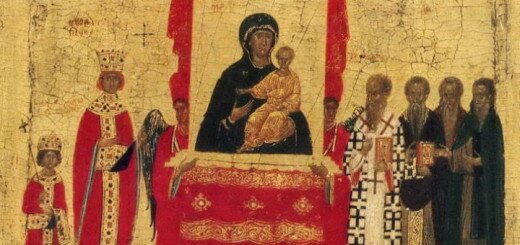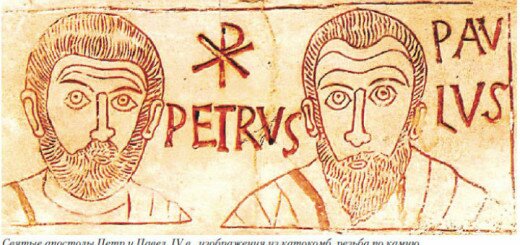Иконография «Страшного суда» в русском искусстве сложилась в XIV — XV вв. В это время русские иконы были особенно близки греческому канону.[1] Здесь слово «канон» понимается в узком смысле как композиционная версия определенного сюжета.[2]
Для ранних русских икон характерны следующие византийские иконографические признаки: Адам и Ева находятся у Этимасии или ниже; Лоно Авраамово и Вертоград Заключенный не разделены; Благоразумный разбойник либо отсутствует, либо стоит в Вертограде, а не у двери рая с Праотцами. Праведники, шествующие в Эдем внизу композиции, идут в сретение другим праведникам, уже находящимся в раю. Огненный поток хорошо виден. Место Даниила с Ангелом строго не фиксировано; апокалиптические царства-звери расположены в правой части иконы (если смотреть изнутри).[3] Чины праведников как бы вписаны в отдельные апсиды; Горний Иерусалим может отсутствовать. Если изображается Горний Иерусалим и возносящиеся крылатые схимники (около сер. XV в.), то последние не выходят за пределы Лона Аврамова, а Небесный Град (в форме креста) включает сцену беседы Богоматери со Христом. Голгофа видна в левом верхнем углу.
Поскольку смысл изображения во многом зависит от иконографии, необходимо отметить, что расположение Адама и Евы у Престола Уготованного, а не рядом со Христом (что характерно для XVI в.), делает деисусную группу менее сходной с композицией «Сошествие во ад».[4] В греческих памятниках «Сошествие во ад» могло изображаться над Деисусом, что помогало символически сблизить Первое и Второе Пришествия Христовы; толковать Страшный суд именно как «сошествие» (динамика движения по изображению сверху вниз). В качестве примера совмещения изображений «Страшного суда» и «Сошествия во ад» можно привести мозаику западной стены в Торчелло (ХII век). Здесь Адам представлен дважды: вверху (в композиции «Сошествие во ад») как искупаемый, внизу — как искупленный человек. Между этими двумя фазами священной истории размещается Христос и Апостолы, судящие мир. Последний символически выражается этими двумя периодами — до Искупления и после него. В подобном бинарном членении времени проявляется ключевая идея Суда — идея разделения человечества на спасаемых (но погибших) и спасенных. В русской иконе образные параллели «Сошествию во ад» угадываются в группах праведников, идущих навстречу друг другу в нижнем регистре. Тема встречи старого и нового, последних и первых времен выражается в «Сошествии во ад» мотивом простертых с двух сторон к Спасителю человеческих рук. На иконе Страшного суда праведников разделяет не фигура Христа, как в предыдущем случае, а Его символ — дверь рая.[5]
В более поздних «Сошествиях во ад» добавляются двери преисподней, которые, видимо, по зеркальной аналогии со вратами в Эдем «Страшных судов», располагаются в нижнем регистре. К этим дверям с одной стороны подходят Ангелы, возвещая приход Царя Славы, а с другой стороны — в сретение им — праведники.
Таким образом в ранних русских иконах предполагается движение снизу вверх от «Боговоплощения» и «Сошествия во ад» через апокалиптические видения Даниила к Страшному суду и жизни будущего века. Богородица в круглом вертограде, возвышающимся над вратами рая, напоминает о Боговоплощении. Праведники у врат и преисподняя, изображенная в противоположной от Эдема стороне, — параллель к «Сошествию во ад». Во втором регистре можно видеть пророка Даниила и четырех эсхатологических зверей. Выше — Судия, Апостолы и Ангелы.
Важной особенностью иконографии XV века является взаимопроникновение Апокалипсиса и Страшного суда. Поскольку Даниил и символические звери «блуждают» по полю иконы, нельзя точно сказать, к какому координатному углу изображения они прикреплены. Они как бы вездесущи. В XVI — XVII вв. изображение видения Даниила приобретает в пространстве иконы постоянное место локализации: либо круг с Даниилом примыкает к Вертограду («горнее место»), а круг со зверями — к земле («дольний» регистр); либо пророческое видение полностью переносится влево — к земле и аду. Таким образом, в позднейших иконах либо происходит отделение святого от греховного (Даниила, Богородицы, праотцев — от земли и преисподней, зверей, символизирующих четыре беззаконных царства), либо разъединение Суда и Апокалипсиса. Суд — справа (Эдем, этимасийный ряд, деисусный ряд, Горний Иерусалим). Апокалипсис — слева (ад, земля и море; видения Даниила об овне и козле, о четырех зверях-царствах, о престолах с книгами).
Исходя из ранней иконографии, можно заключить, что для изображений Страшного суда XIV — XV вв. не так характерна тема малой эсхатологии, поскольку мотивы, связанные с личной судьбой человека после смерти, здесь либо отсутствуют, либо слабо развиты (мерило праведное и фигура судимого человека). В более поздних иконах кроме последнего мотива и змея мытарств, вводящих в панораму всеобщего Суда элементы суда индивидуального, появляются эпизоды «В гробы вникнем»[6], смерть богача и Лазаря, грешного и праведного. В изображениях западнорусского происхождения часто можно видеть сцену неправедной исповеди, связанную с посмертной судьбой человека. В редких случаях на иконе Страшного суда может быть изображена преподобная Феодора — келейница Василия Нового — чье хождение по мытарствам описывается в широко распространенном на Руси житии св. Василия.[7] По мнению некоторых исследователей, списки мытарств в композициях Страшного суда, особенно в иконах XVI в. западнорусского происхождения, близки спискам, предлагаемым в житии Василия Нового.[8]
Перечисленные выше особенности «ранней» иконографии, в виде отдельных деталей могут встречаться в более позднее время. Однако существует такая иконописная традиция, которая в XVI — XVII вв. полностью ориентируется на описанный тип изображений или, иными словами, имеет своим прототипом в большей степени греческую, нежели чем русскую традицию. Это Греко-католическая («Галицкая») традиция. Изображения этого типа выполнялись простонародными мастерами, что сближает их не столько с высоко профессиональным церковным искусством, сколько с искусством народным,[9] близким традициям примитива в самом лучшем смысле этого слова. Знаменательно, что подобную же тенденцию можно заметить в искусстве русских старообрядцев, книжные миниатюры и иконы которых иногда напоминают яркостью своего колорита и особенностями трактовки образов лубочные картинки. Пафос наглядного и бесхитростного назидания, выражающийся в обилии притчевого материала изображений и пространности их словесных комментариев, пронизывает как собственно лубочную традицию старообрядцев, так и униатскую иконописную традицию. Последняя особенно часто использует эпизоды прихода Смерти с косой и царя Давида с лютней к одру умирающего. Смерть с косой — не только распространенный персонаж позднейших лубочных картинок, берущих свое начало от украинских Синодиков,[10] но и любимый герой школьной поэзии и драматургии XVII — XVIII веков. Спектакли духовного содержания, принятые в католических иезуитских коллегиях, на униатской почве могли перерождаться в XVIII — XIX вв. в своеобразные народные представления, типа кукольного вертепного театра, разыгрывающего драму об изгнании из рая, Рождестве Христовом и избиении Вифлеемских младенцев.[11] Вертепная драма имеет немало эсхатологических мотивов и даже иногда сопровождается народными текстами, навеянными поэзией Постной Триоди. Среди таких текстов можно назвать духовный стих «Плач Адама», связанный с богослужением Сыропустного воскресенья.[12] Ирод часто сближается в вертепных представлениях с нечестивым богачом, желающим откупиться от справедливо настигающей его смерти.
Ах, увы! Беда!…
Боюсь я Страшного суда.
Но ты, Смерть, страшна и безобразна,
Зачем внезапно ко мне пришла?
Скрыта бо твоя труба и коса,
Понеже ты ходишь суха, нага и боса[13]…
— восклицает Ирод в народном представлении. Таким образом, серьезная и «монументальная» рождественская школьная драма,[14] имеющая место в православных заведениях, среди Греко-католических семинаристов в XVIII— XIX вв., получает «лубочную» (кукольно-вертепную) интерпретацию, характерную для народного театра. Народный и лубочный характер приобретают крестьянские Греко-католические иконы XVI-XVII вв. по сравнению, например, с иконами православными.
Упоминание народного театра в связи с иконописью не случайно. Несмотря на свое относительно позднее появление (кон. XVII — нач. XVIII вв.), вертепная драма, как всякий фольклорный текст, содержит живые символы старой культуры, которые продолжают быть актуальными здесь гораздо дольше, чем в источниках книжных. В текстах вертепа XIX века оседает культурная традиция предыдущих веков, присутствуют элементы фольклора, не меняющиеся с течением продолжительного времени. Так, персонажи, заполняющие ад в униатских иконах — Швец, Чаровница, Корчемница и др. — имеют богатый сюжетный контекст в традиционной крестьянской словесности[15] и интермедиях школьной драмы. Здесь важно подчеркнуть, что благодаря наличию такого контекста, эти образы, видимо, не следует расценивать как «непосредственно выхваченные из реальной жизни». Реальность вербальная существенно отличается от реальности бытовой: они могут использовать близкие знаки и образы, но семантические обоснования у них принципиально различаются.
Простонародная трактовка — не единственный фактор, сближающий изобразительную манеру греко-католиков со старообрядческой манерой художественного творчества. Принцип выбора текстов для комментария к изображениям и в той, и в другой традиции сходен. Если раскольники для своих рукописей выбирают тексты очень осторожно по признаку их наибольшей каноничности, проявляют особое внимание к Св. Писанию и богослужению,[16] то в униатских иконах арсенал надписей регламентирован по тем же параметрам: предпочтение отдается текстам из Евангелия[17] и Постной Триоди.[18]
Необходимо отметить, что иконография Греко-католических «Страшных судов» при всей своей близости раннему русскому композиционному типу, отличается от него еще большей «эллинистичностью» в некоторых деталях. Так, Вертоград Заключенный здесь почти всегда окружен крепостной стеной, что в русских иконах XVI—XVII вв., практически, не встречается,[19] но вполне органично для греческой иконографии. Например, в росписях Саламинского монастыря 1735 г. вокруг Богоматери изображены стены рая.[20] В униатских иконах аллегорическое Море часто бывает представлено с кораблем в руках, восседающим на двух рыбах. В Ватопедском монастыре на Афоне в живописи XIV века Море изображено в виде женщины, сидящей на двух морских чудовищах, с кораблем в правой руке и обнаженной человеческой фигурой — в левой.[21] Возносящиеся схимники в Греко-католической традиции отсутствуют. Иногда на их каноническом месте изображается коридор мытарств.
Итак, в своих иконах Страшного суда Греко-католические живописцы оказываются в большей степени наследниками Византии, чем живописцы русские; а старообрядческие книжники в своих рукописях — как бы «более православными», чем сами православные.
Рассмотренный иконографический тип нельзя считать атрибутом исключительно Греко-католических или ранних российских памятников, поскольку униатские западно-русские изображения могли распространять свое влияние на близлежащие православные области.
В XVI в. на иконе Страшного суда происходит отделение Вертограда Заключенного от Лона Авраамова, возникает «эдемский коридор» с возносящимися схимниками, «отгороженный» от «нижнего рая». Ему противопоставлен «гееннский коридор», в который архангел Михаил низвергает демонов. Как замечает В.К. Цодикович, огненный поток к XVII в. исчезает, особое значение приобретает змей мытарств.[22] Горний Иерусалим приобретает вид пиршественных столов в ограде, что вносит в его образ больше конкретики, подобно тому, как это описывается в видении Григория — ученика Василия Нового. О рае:
Близ же тех полат, сиреч близ восход их, стоаше трапеза велика… и красоты трапеза тоа творяаше неизреченныя. На трапезе же велики мисы лежаща позлащены, яко молниа видением… и цветы же убо различни лучьшии лежааху на мисах, и верху цвет тех овощи неизреченнии[23]…
На иконе за каждым столом сидит определенный чин праведников:
Водиша убо бех всюду и обители многи любящим Бога уготованныя, преисполненныя славы и благодати, … Особно обители апостольская, особно пророческия, особно святительския[24]…
В иконах XVI в. Благоразумный разбойник чаще находится в Лоне Авраамовом, в котором Праотцы сидят фронтально, в отличие от ранних икон. За пазухой у каждого Праотца — души праведников в виде детей. Иногда праведники окружают Праотцев, как об этом повествует житие Василия Нового:
И доидохом же до ядр авраамовых, и се исполнь славы не стареющася ядро его. … Ту бо полаты умных от светлых луч с особными патриархи духовными хитростьми состроены … В них же младенцы христианстии, елико же их есть, банею бытийскою по разрешению связания плотьскаго окрест его славою неизреченною ликующе, … окрест Авраама, Исаака и Якова[25]…
Близость приведенных текстов и деталей изображений объясняется причастностью и того, и другого Великопостному календарному циклу. Страшный суд — одна из основных тем Великого поста, которая его предвосхищает и завершает. Суд вспоминается на Мясопустной неделе в субботу и воскресенье; в Сыропустное воскресенье с адамовым изгнанием и на Страстной неделе при входе Господнем в Иерусалим, в великий вторник при чтении евангельских притч о десяти девах и неключимом рабе; в Страстную пятницу и великую субботу сошествия во ад; в Пасхальное Воскресенье. Житие Василия Нового, в которое входит как рассказ о хождении Феодоры по мытарствам, так и видение Григория о Страшном суде, помещено в Минеях четиих под 26 марта. Этот день почти всегда попадает на вторую половину Великого поста.
Как отмечает Н.В. Покровский, в XVI-XVII вв. между раем и адскими муками начинает изображаться милостивый блудник[26] — герой древнерусского Пролога.[27] По замечанию Е.В. Петухова, Пролог — книга, имеющая большое распространение в России — стал достоянием печати в 1642—43 гг. в Москве. «Слово о некоем блуднике, иже милостыню творя, а блуда не остави» помещено в Прологе под 12 августа[28] (период Успенского поста). Во времена Леона Исавра некий весьма милостивый, но блудный муж жил в Константинополе. После его смерти его загробная участь была открыта в видении благочестивому старцу: ради своей милости он был избавлен от мук, а ради блуда не удостоился войти в Небесное Царство.[29] В Строгановском иконописном подлиннике изображение этого человека сопровождается следующей надписью:
Что стоиши, человече, и позираеши на рай и на муку? Блуда бо лишен бысть блаженнаго рая, а милостыни ради лишен вечныя муки[30]…
В целом для икон XVI — XVII вв. характерно присутствие мотивов малой эсхатологии (см. выше). Идея противопоставления выражена здесь прямолинейнее и отчетливее, чем раньше. Апокалипсис противопоставляется Страшному суду; «коридор» с возносящимися схимниками — «коридору» с низвергающимися демонами. В конце XVI — нач. XVII вв. характерно присутствие мотивов малой эсхатологии. В силу активно используемого в это время принципа зеркальной аналогии, и Горний Иерусалим , и ад приобретают ячеистую структуру, близкую друг другу по внешнему виду, что усиливает динамику их противопоставления. В иконах XVII века увеличивается количество ярусов праведников до трех или даже четырех. Круги, ограничивающие отдельные сюжеты исчезают, возникает эффект «затолпленности». Н.В. Покровский пишет, что в XVI — XVII вв. заметно стремление художников отказаться от разделения поля иконы на многочисленные части и связать все обилие изображений «Страшного суда» в одно целое.[31]
На протяжении XVI — XVIII вв. меняется отношение к пространству иконы. Если для XVI в. более характерно вертикальное членение изобразительного поля, то для XVII — XVIII вв. все большую силу начинает приобретать горизонтальное членение. Изображения, ориентированные на Сийский иконописный подлинник, переносят море, отдающее мертвецов; четырех зверей и Даниила; праведных, приближающихся к дверям рая, и грешных, увлекаемых в ад, — вниз на землю. Вертоград Заключенный теряет свое срединное положение и переносится на место Горнего Иерусалима. Праотцы из нижнего правого угла перемещаются ближе к чинам небесной Церкви. Пирующие в раю праведники занимают почти весь верхний ярус. Знаменательно, что отождествление Богородицы уже не с Эдемом, но с Горним Иерусалимом происходит не только в иконах, выполненных по Сийскому подлиннику, но в изображениях другого типа, где Лоно Авраамово и Вертоград Заключенный представлены внутри архитектурного сооружения, или где Вертоград окружается столами с чинами пирующих праведников. Интересно, что эта же тенденция присутствует и в миниатюре.[32]
Важной особенностью икон XVII — начала XVIII вв. можно считать усложнение языка их художественного толкования. Они теперь воспринимаются не только в контексте святоотеческой литературы, Св. Писания и богослужения, но в контексте родственных им по смыслу памятников живописи. Это проявляется в том, что целый ряд икон может строиться по модели «Страшного суда», а «Страшный суд» — включать элементы, навеянные другими изображениями. Например, в «Страшных судах» XVII в. под Вертоградом Заключенным можно видеть Благоразумного разбойника, беседующего с Енохом и Илией, согласно апокрифическому Евангелию от Никодима.[33] Этот образ пришел в икону Страшного суда из «Сошествия во ад». На иконах «Сошествия» данное изображение могло сопровождаться текстом, сходным с диалогом, который приводится в слове Евсевия Александрийского:[34]
Праведником, вшедшим во святый рай, обретоша разбойника и нань зрящее ужасахуся, глаголаху к нему: кто тебе повеле во святый си рай прежде нас? Убивать ли зде пришел или красти, повеждь нам. Разбойник же поведа праведником, како бысть Христово распятие и … (како) во святый рай внидох и виде Илью и Еноха и беседова[35]…
Возможна «круговая» связь изображений Страшного суда с другими иконами. Например, «Почи Господь» строится по схеме, близкой «Страшному суду»: земля, на которой происходит наречение имен зверям, обучение прародителей ручному делу и убийство Авеля, окружена четырьмя трубящими Ангелами, предающими последней сцене апокалиптическое звучание. Эдем, где Господь создает первых людей, находится здесь там же, где и Богородица в раю или Лоно Авраамово на иконе «Страшного суда». Престол с почивающим Саваофом сопоставим с Этимасией и т.д. При этом обратное влияние «Почи Господь» на «Страшный суд» сказывается, например, в неожиданном появлении в последнем эпизоде убийства Авеля. (Эта сцена присутствует в образе «Страшного суда», согласно иконописному подлиннику гр. С.Г. Строганова).[36] Параллелизм этих икон объясняется их причастностью страстной проблематике. Центральный образ иконы Страшного суда, как и Великого поста — Крест.[37] В иконе «Почи Господь в день седьмый» смерть Авеля прообразует Жертву Спасителя. Адам с изъятым ребром напоминает о Христе с прободенным ребром. Над спящим Адамом виден Ангел с орудиями Страстей. Еще выше — Господь на кресте в своем Божественном успении, окруженный Серафимами.
Тема грехопадения адамова и заключенного, а потом отверстого рая присутствует в иконе Страшного суда не только, благодаря ее генетическому родству описанному изображению. Эта тема составляет обязательный подтекст правого нижнего сектора иконы «Страшный суд», посвященному Эдему и входящим в него праведникам. В XVII веке этот подтекст актуализируется в таких изображениях, как «Почи Господь». В великопостных службах существует определенный параллелизм между образами Благоразумного разбойника и Адама. В день адамова изгнания Церковь обращается устами Адама к раю, прося его заступления перед Богом:
Раю всечестный, краснейшая доброто. Богозданное селение, веселие нескончаемое … и святых жилище, шумом листвий твоих Создателя всех моли, врата отверстии ми, яже преступлением затворих[38]…
Существенно, что помимо рая, есть еще один неодушевленный Предмет, к которому Церковь обращается, как к чему-то одушевленному, — это животворящий Крест. Таким образом, разбойник в Лоне Авраамовом уподобляется Адаму, а сам Эдем может быть отождествлен с Крестом. То есть символический образ Голгофы в изображениях Страшного суда, начиная с XVI века, переносится из верхнего левого угла — в правый нижний угол. Высокие горы вокруг рая ассоциативно усиливают этот смысловой оттенок. Одновременно горы могут быть связаны с образом Горы нерукосечной (или Богородицы), о которой пророчествовал Даниил. Тема заключенного рая возникает на иконе в виде композиции «Вертоград Заключенный». Богородица Сама является тем блаженным Вертоградом, который и заключен, и отверст одновременно. Адамово изгнание в богослужении уподобляется концу света. Это событие сопровождается, согласно службе, теми же знамениями, что Распятие Христово и Его Второе Пришествие:
Солнце лучи скры, луна со звездами в кровь преложися, горы ужасошася, холми вострепеташа, егда рай заключися[39]…
Итак, если проследить общее направление чтения изображения иконы «Страшный суд» XVI — XVII вв., то окажется, что от Деисуса с Адамом и Евой, напоминающего центр композиции «Сошествие во ад» (символ пришествия Христа на землю), взгляд спускается к раю — метафоре Голгофы — и поднимается высь вместе с праведниками, взлетающими в Горний Иерусалим на красных пасхальных крыльях воскресения.
Иконы «Сошествие во ад» XVI — XVII вв. иногда представляют собой любопытный пример зеркальной аналогии «Страшному суду», расширяя тем самым интерпретационное поле последнего. Например, на иконе XVI в. из Ярославского художественного музея к двери ада, расположенной в нижнем правом углу подходят Ангелы, возвещающие приход Христа. В это время между адом и диаволом происходит следующий диалог:
Ад же рече ко диаволу: треглавче Везевуле, …не рех ли ти не протии(витися) Ему. Се ныне предстои окаянный диавол плачася и глаголя: помилуй мя …, аде, потрудись мене ради страннаго. Не отверзи врат (Царю Славы — Д.М.)[40]…
Ср. с молитвой Адама:
раю, … моли врата отверстии ми, яже преступлением затворих…
Одновременно с разрушением врат ада в иконе «Сошествие во ад» происходит отверзение врат рая человеку — Благоразумному разбойнику:[41] Богу пришлось сойти во ад для того, чтобы Адам вернулся в рай. Так икона «Страшного суда» XVI в. оказывается зеркальной параллелью «Сошествию во ад», поскольку отображают они, по-сути, одно и то же, но многие символы расположены в них диаметрально противоположным образом. Так в «Сошествии во ад», большее место на иконе отведено аду, рай занимает небольшой верхний регистр. В «Страшном суде» почти все изобразительное поле иконы заполняет рай (он повторен в разных видах шесть раз). Ад компактно представлен в нижнем ярусе. На иконе «Страшного суда», однако, происходит не только возвращение Царствия Небесного человеку, но и второе окончательное изгнание из рая нечестивых. В некоторых иконах XVI — XVIII вв. грешники, в отличие от праведников, представлены нагими. Их группы могут напоминать изгнанных Адама и Еву.
Близки по своей иконографии «Страшному суду» иконы «Сын Единородный» и «Величит душа Моя Господа». Обе иконы связаны с богослужебными ежедневными песнопениями. «Величит душа Моя Господа» — песнопение Богородицы — звучит на воскресной Утрени после центрально части службы (после Полиелея и Евангелия). То есть малая Пасха, сконцентрированная именно в данном месте богослужения, завершается прославлением Богородицы. Если икона Страшного суда знаменует собой большую Пасху года, то образ «Величит душа Моя Господа» — малую Пасху недели. Символический параллелизм между праздничным воскресным днем и Светлым Христовым Воскресеньем выражен на иконах композиционными средствами. В Богородичной иконе присутствует и Эдем, населенный преподобными отцами; и Горний Иерусалим, принимающий крылатых схимников; и сыны израилевы. Последние помещены на том же самом композиционном месте, что и иудеи и другие осужденные народы на иконах Страшного суда. В изображении Богородичного песнопения Израиль представлен в лице своих праведников, образы которых сопровождает надпись: «Восприят Израиля отрока Своего, помяну милость». В иконе Страшного суда, напротив, слева от центра стоят неправедные иудеи, которых обличает Моисей. В житии Василия Нового эта сцена описывается так:
Они (иудеи — Д.М.) увидели его, тотчас узнали его и закричали: «О Моисей, ты дал нам Закон. Мы данный нам тобою Закон сохранили»… Моисей отвечал им: «О, бессмысленные и черствее сердцем сыны не Авраама, а диавола. Не писал ли я вам в Законе так: Пророка воздвигнет вам Господь Бог из братий ваших. … и буде сякая душа, которая не послушает Пророка того, изгнана из среды их. Что еще может быть яснее сказано вам»[42]…
В нижнем регистре Богородичной иконы видны «чины» грешных: каждый вид греха, как и в иконе «Страшного суда» представлен в отдельной пещере. Слева направо: сребролюбец («и богатящиеся отпусти тщи»), неправедные владыки («низложи сильные со престол»), гордые монахи («расточи гордые мыслию сердца их»).
Изображение «Сыне Единородный» связано с песнопением Литургии[43] и, подобно первой иконе, может расцениваться в отношении к «Страшному суду» как малая Пасха — к большой. Христос-воин, восседающий на кресте, на месте Лона Авраамова «Страшного суда»; Смерть — на месте ада; композиция «Не рыдай Мене, Мати», сопоставимая с этимасией; Богородица Знамение,[44] представленная в изображении «Сыне Единородный» там же, где находится Вертоград Заключенный в иконе «Страшный суд» — все эти параллели сближают оба изображения как имеющие отношение к страстям Христовым, Пасхе и Страшному суду.
Если говорить о надписях русских икон «Страшный суд» XVI — XVII вв., можно отметить, что наиболее часто здесь встречаются тексты из слова Палладия Мниха о втором Пришествии (поля),[45] Евангелия и Псалтири[46] (средник).
В заключение скажем несколько слов о возможных иконографических группах изображений Страшного суда XVI— XVII вв. Поскольку верхняя часть иконы остается почти всегда неизменной, разделение на иконографические группы, в основном, опирается на особенности нижней части изображения. Деисусный и этимасийные ряды почти всегда остаются идентичными. Выше в центральной части иконы расположен образ Господа Саваофа, слева — Он же благословляет Христа спуститься на землю, левее — Архангелы, поражающие демонов (XVI в.). Вариант иконы конца XVI — XVII вв. иногда включает, помимо указанных композиций, еще «Троицу», которая заменяет Саваофа и появляется либо на Его месте, либо — левее. Это сочетание может быть дополнено изображением престолов с книгами.
Взаимосвязь иконы «Страшный суд» с текстами Постной триоди упоминалось выше. Семантическая связь этих двух систем не нуждается в особых доказательствах, поскольку существует немало изображений, буквально подтверждающих эту мысль. Например, на двухсторонней московской таблетке первой половины ХVI в. с одной стороны написан «Страшный суд», а с другой — четыре изображения, посвященные предуготовительным неделям Великого поста: недели о мытаре и фарисее, о блудном сыне, Сыропустная («Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших», «Адамово изгнание»).[47]
Интересно, что икона Страшного суда в зрительных образах представляет Великий пост и обрамляющие его подготовительный и Страстной циклы. Так, в указанный период, Крест вспоминается в Церкви дважды: в третью неделю Поста и в Страстную седмицу. На иконах до XVIII века изображений Креста, как правило, тоже два (в центре живописного поля — как бы в центре Поста), и в раю (в XV веке наверху, в XVI — XVII вв. внизу) — на Голгофе в Страстную Пятницу. Третий крест иконы в XVII в. может иногда появляться в верхней композиции «Троица».
В ходе первой части Поста последовательно поминаются все чины святых, которыми занята вся верхняя половина иконы «Страшный суд». Преподобные и богоносные отцы в подвиге просиявшие — вечер Сыропустной пятницы; пустынники — Утреня Сыропустной субботы; благоверные цари (Михаил и Феодора) — первая неделя, воскресенье; пророки — Повечерие воскресенья первой недели; мученики — Утреня субботы второй недели; апостолы – Утреня четверга третьей недели. Третья неделя — поклонение Кресту.[48] В субботу Пятой недели читается Акафист Божией Матери, который можно отождествить с образом Вертограда Заключенного в иконе. Так, ключевые образы великопостного цикла — чины святых, Животворящий Крест, Богородица — оказываются смысловыми доминантами иконы. Эти доминанты мы можем воспринять все одновременно как некий собирательный символ Страшного суда.
Чтение иконы может быть основано на определенном богослужебном маршруте:
Память всех от века усопших православных христиан. «От четырех конец, Господи, приемляй верно усопшия, в мори или на земли, … снедь зверем бывшия, и птицам, и гадом, вся упокой».[49] Земля и море на иконе отдают мертвецов. Звери и птицы извергают растерзанное. Это изображение всеобщего воскресения можно считать началом повести о Великом посте или Страшном суде.
Воспоминания о страшном суде. «Егда поставятся престоли, и отверзуться книги, и Бог на Суде сядет, о кий страх тогда ангелом предстоящим в страсе и реце огненней влекущей»![50] В иконе чины праведных предстоят Судии (апостолы, святители, мученики, преподобные). «Молитвами Рождьшия Тя, Христе, и мученик Твоих, апостол, пророк, иерархов, преподобных и праведных, и всех святых усопшия рабы Твоя упокой».[51]На иконе души ожидают своей участи у мерила. «Аще бо равный вес обрящется добрых и гнусных, побеждает человеколюбное, аще и мало что злых мерило отягчается, преодолевает паки преблагое».[52] Моисей обличает иудеев. «Пристрашен и трепетен бысть Моисей, видя Тя от задних. Какоже постою, лице Твое видя тогда аз окаянный».[53] Пророк Даниил с Ангелом взирают на апокалиптические видения. «Даниил убояся часа истязания. Аз же окаянный что постражду от Него, грядый Господи страшнаго дне».[54]
На иконе у врат Эдема стоит Благоразумный разбойник — символический образ возвращенного в рай Адама. «Седее Адам прямо рая и свою наготу рыдая плакаше».[55] Память пророков ( 1 нед.), мучеников (2 нед.), апостолов (3 нед.). Святые грядут в рай (нижний регистр иконы «Страшный суд»). «Благоухания ныне исполняемся, яко в рай другий текущее, богонасажденных добродетелей постнических. Яже в воздержаниих и слезах процветоша, различно плодоносящее жительство Богу преподобнейши».[56] Поклонение Животворящему древу Креста. В иконе: Лоно Авраамово, в нем — Благоразумный разбойник со знамением Креста (3 нед.).
Икона: схимники взлетают в Горний Иерусалим. «Добродетельми к небеси возсиявый. Водружен яве, возшел еси к боговидения неизмеримой глубине благочестно …Иоанне, Лествице добродетелей»[57] Среди возносящихся монахов на иконах XVI века можно видеть не только Иоанна Синайского (Лествичника), но Антония и Феодосия Киевопечерских, Сергия Радонежского, Иоасафа царевича[58] и его наставника Варлаама[59]. Образ лествицы неразрывно связан с Праотцами и, прежде всего, — с Иаковом, который видел небесную лествицу с Ангелами. Интересно, что лествицы Иакова и Иоанна Синайского на иконах изображаются именно на том месте, где в иконах Страшного суда представлены возносящиеся праведники (см. «Лествицу», «Троицу в бытии» XVI — XVII вв.).[60] Иоанн с лествицей духовного восхождения может присутствовать и на иконе Страшного суда в том же координатном углу, что и летящие преподобные.
На иконе — Вертоград Заключенный. Недалеко от него в некоторых «Страшных судах» изображалась смерть богача и Лазаря. Воспоминание о богаче и Лазаре приходится на воскресенье Пятой недели Великого Поста. «Лазаря якоже спасл еси от пламени, Христе, тако мене от огня избави гееннскаго, недостойнаго раба Твоего».[61]
На иконе преподобные подлетают к Горнему Иерусалиму.
На иконе — Этимасия и спуск в геенну. Земля и море отдают мертвецов, с четырех сторон света трубят Ангелы. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей … И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. … произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них … так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут» (Иезек. 37: 1-9, Паримийное чтение Великой субботы).
Христос возвращается к Отцу. Композиция на иконе изображает Господа Отца, благословляющего Сына совершить Суд на земле. Это изображение можно понимать в контексте всего сказанного и как возвращение Христа к Отцу, и как благословение Христа на крестные страдания.
Иная картина богослужебного прочтения более ранних и более поздних икон Страшного суда, поскольку основной пространственно-временной ориентир иконописного поля — Крест — задает в ранних и поздних иконах другую логику движения. Если в «Страшных судах» XVI — XVII вв. движение беспрерывно, то в иконах XV в. — дискретно и разделено на «верхний путь» ( от памяти усопших христиан до Страстной седмицы) и «нижний путь» — от Страстной седмицы до Воскресения. Поскольку в ранних иконах в Горнем Иерусалиме часто изображается собеседование Христа и Богоматери, прославление Богородицы в субботу Пятой недели может быть совмещено со Входом Господним во Иерусалим. О трактовке «нижнего» рая как зеркальной параллели «Сошествия во ад» уже говорилось. Предложенный разнонаправленный путь прочтения изображения дает понять, что «движение» зрителя по иконе XV века было продиктовано не закономерностью художественного сопряжения близких по смыслу образов, что уже чувствуется в XVI веке, но непоследовательными законами жизни символа, который может оставаться тождественным самому себе, существуя одновременно в разных пространственно-временных системах координат. В поздних памятниках конца XVII — XVIII вв. богослужебные смыслы композиций притупляются, благодаря более прямолинейному разделению изображения на небо и землю.
Мы уже упоминали о том, что близкие по смыслу иконы XVI-XVII вв. имеют тенденцию к «самоинтерпретации». Интересно, что в круг параллелей «Страшному суду» могут входить иконы Рождественского цикла, а сам «Страшный суд» — прочитываться при помощи богослужебных текстов Рождественского поста. Совмещение Рождественского и Страстного циклов органично как для иконописной традиции, так и для литературных источников. Например, знаменитое Слово Ефрема Сирина о Втором Пришествии, на которое ссылаются многие исследователи в связи с иконой Страшного суда, помещено в Великих Минеях Четиих под 25 декабря.[62]
Рождеству предшествуют недели Св. Отец и Св. Праотец, поэтому начало чтения иконы можно отнести к Лону Аврамову с Праотцами. Образы трех Праотцев тесно сопряжены в предрождественском богослужении с образами трех отроков в пещи огненной и пророка Даниила, которые имеют эсхатологическую окраску. Поскольку три отрока в пещи символизируют Боговоплощение,[63] пещь огненная, подобно несгораемой купине, может быть отождествлена с раем. На некоторых иконах три отрока напоминают Праотцев за стеной Эдема. Данная икона вообще может быть сопоставлена с нижним регистром «Страшного суда». В первом случае, вместо сатаны, сидящего в геенне, можно видеть беззаконного царя-мучителя. «Рай» от «ада» в обоих случаях отделяется колонной.
В целом изображение Страшного суда может быть разделено на две сферы Священной истории: до Рождества Христова и после него. По сторонам этих сфер — ад и рай. Если образ Страшного суда может рассматриваться через иносказание Рождественского богослужебного цикла, то икона Рождества Христова в традиции XVI — XVII вв. иногда повторяет схему «Страшного суда». Особенно показательным в этом смысле является образ Рождества из Каргополя[64] с развернутым событийным рядом, совпадающим по своей топографии с эсхатологическими изображениями XVI века. Принципиально иные образы рождественской иконы принимают на себя композиционную и условность апокалиптической эпопеи. Например, сцена прибытия в Египет Св. Семейства и иконографически, и пространственно напоминает правый нижний угол иконы «Страшный суд» (если смотреть изнутри), где изображены праведники, вступающие в Эдем, и Богоматерь в раю. Змей мытарств, вокруг которого Ангелы с копьями оспаривают у демонов души, представленные в виде младенцев, ритмически «повторен» в центре рождественской иконы, где праведная Елизавета спасает отрока-Иоанна от воина, вооруженного копьем. Избиение Вифлеемских младенцев изображено там же, где обычно на эсхатологических иконах изображаются адские мучения и т.д. Иными словами, при наложении обоих изображений друг на друга, возникает особая плоскость символических координат, передающая «метафорический ритм» многоаспектного иконописного изображения вообще и эсхатологического в частности.
Мы попытались рассмотреть иконы XVI — XVII столетий в динамике движения иконографического канона XV—XVIII в. и интерпретировать смысл этого канона в контексте литературных памятников, приведенных в логическую систему богослужебными циклами. Поскольку в центре нашего внимания оказалась проблема взаимоотношения слова и изображения, необходимо обрисовать специфику этого взаимоотношения в иконе «Страшный суд» и наметить некоторые перспективы исследования материала древнерусской живописи в данном русле.
«Текст» иконы может быть двояким: вербальным, записанным на полях и среднике; и образным, претворенным в связное повествование средствами живописи. И тот, и другой тексты неоднородны: надписи разделяются на функциональные типы. А изображения могут быть прочитаны в пространственно-временном универсуме либо с преобладанием категории пространства (однородность восприятия), либо с преобладанием категории времени (протяженность восприятия).
Вербальный текст. Качество надписи в иконе (ее источник и объем) определяет ее место в пространстве изображения. Тексты на полях функционально стоят вне изображения и являются не столько комментарием к нему, сколько его словесной дублировкой. В «Страшных судах» XVI — XVII вв.маргинальные тексты, в отличие от надписей средника, могут быть очень пространными. Этим текстам само изображение «не нужно», поскольку по смыслу они тождественны ему. То есть поля оказываются тождественными иконе. Подобно тому, как в лицевых рукописях XVI-XVII вв. можно рассматривать только миниатюры, не читая текста, так и в иконах этого времени можно только читать маргинальные надписи, не вглядываясь в изображение. При этом связь между текстами на полях и изображением существует, но не потому, что изображения притягивают к себе определенный комментарий, а потому, что надписи осваивают символические локусы пространства иконы по тем же законам, что и изображения. Выявление этих законов могло бы расширить наше понимание русских икон Страшного суда. Надписи средника по функции являются комментарием, «врастающим» в живописный текст. Интересно, что они не только могут ассоциироваться с речами персонажей (слова на свитках), но соотноситься с планом богослужебных чтений одного дня, поскольку среди них явно различаются ветхозаветные пророчества (паримийная область), апостольское слово («Апостол») и Евангелие (евангельские чтения служб). Рассмотрение вербальных текстов средника с этих позиций помогло бы увидеть иконописное изображение в перспективе его ближайших символических смыслов. Надписи средника неоднородны по качеству, поскольку канонические надписи, о которых говорилось выше, существенно отличаются от словесных пояснений иконы, живущих по принципам устного традиционного текста. Исходя из этого, бесполезно, например, искать литературные источники списков чинов святых, мытарств и адских мук: в этих списках реализуется культурный канон, у которого нет автора, как его нет у определенного способа мышления.
Образный текст в своем одномоментном прочтении больше связан по смыслу с такими же одномоментными текстами других художественных памятников, чем с литературой. Однако сама возможность возникновения концентрированного символического пространства в изображении, когда на одном и том же образе сходятся одновременно несколько семантических полей православной культуры, делается реальной, только благодаря словесным памятникам. Икона не чужда и другого типа образности, который идет «след в след» за книжным словом, при чем само это слово отсутствует в виде вербального текста в изображении, предоставляя живописи отсылать зрителя к Св. Писанию или Минеям Четиим. Изучая образный текст иконы, можно углубиться в исследование «канона отдельного мотива», поскольку в традиционном искусстве один мотив, персонаж или предмет влекут за собой как целый набор сюжетов и иконописных формул, предусмотренных данной культурой, так серию определенных текстов. Эти тексты и сюжеты приносят новые ключевые мотивы, которые, в свою очередь, захватывают новые смысловые пласты литературы и изобразительного искусства. Так, мотивы иконы «Страшный суд» могут подтолкнуть к выявлению концептов русской живописной эсхатологии.
 ДАВИДОВА, Мария Георгиевна — доцент кафедры истории и теории искусства, Государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Основные публикации: Давидова М., Лепахин В. Введение во храм Пресвятой Богородицы. СПб., 2013 // Давидова М.Г. Графическое искусство Средневековья. Вопросы стиля и иконографии. Учебное пособие. СПб., 2012 // Давидова М.Г. Программа декоративного убранства базиликальной церкви. Краткий очерк итальянского искусства (IV-XIV вв.). СПб., 2004 // Русский вертепный театр в традиционной культуре
ДАВИДОВА, Мария Георгиевна — доцент кафедры истории и теории искусства, Государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Основные публикации: Давидова М., Лепахин В. Введение во храм Пресвятой Богородицы. СПб., 2013 // Давидова М.Г. Графическое искусство Средневековья. Вопросы стиля и иконографии. Учебное пособие. СПб., 2012 // Давидова М.Г. Программа декоративного убранства базиликальной церкви. Краткий очерк итальянского искусства (IV-XIV вв.). СПб., 2004 // Русский вертепный театр в традиционной культуре
 ×
×
Примечание
- Статья публикуется в сокращение.
- [1] Цодикович В.К. Семантика иконографии «Страшного суда». Ульяновск, 1995. С. 13 — 14. Исследователь рассуждает о близости русских и греческих икон XIV—XV вв., опираясь в основном на особенности композиции в целом и расположение огненного потока на иконе. Далее: Цодикович.
- [2] Канон в широком смысле — это образный лексикон традиционной культуры, существующий в формах изобразительного искусства и функционирующий в ритме, заданном определенными семантическими формулами данной традиционной культуры. Канон в узком смысле относится к канону в широком смысле слова, как речь к языку.
- [3] Здесь и далее, правая и левая стороны — справа и слева от Христа.
- [4] В.К. Цодикович отмечает, что «Сошествие во ад» могло повлиять на сложение иконографии «Страшного суда». Цодикович. С. 40—43.
- [5] «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» (Ин.10:9).
- [6] Композиция, представляющая иноков, смиренномудрствующих у отверстого гроба, и отвечающая словам службы: «В гробы вникнем, где слава; где доброта зрака; где благоглаголивый язык … вся прах и сень». (Из 8 песни канона Мясопустной субботы, посвященной всем усопшим христианам. Т.П. 1656. Л. 32 об.). Сходные композиции мжно видеть в лицевых Синодиках литературных сборниках, откуда они и пришли в икону.
- [7] Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Тексты жития. Одесса, 1911.
- [8] Цодикович. С. 48.
- [9] На эту особенность греко-католического изобразительного искусства нам указала Г.В. Тавлай.
- [10] Петухов Е.В. Очерки из литературной истории Синодика. СПб., 1895. С. 315.
- [11] Марковський Е. Украiнский вертеп. Киiв, 1929; Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып. 8. Вильна, 1912. С. 74—103.
- [12] Савельева О.А. «Плач Адама». Круг источников и литературная семья памятника // Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 164—182.
- [13] Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып. 8. Вильна, 1912. С. 78. Монолог Ирода в данном случае связан с лубочным листом "Ах, увы, беда!", где помещены силлабические вирши (синодическго толка, с точки зрения их тематики). См. : Ровинский Д. Русские народные картинки. Кн. 3. СПб., 1881. С. 124, № 749.
- [14] Рождественских драм, написанных для школьной сцены, существует очень много. Среди них можно назвать пьесы Димитрия Ростовского и Митрофана Довгалевского. К ним примыкает и действо о Пиролюбце и Лазаре, приуроченное к началу Рождественского поста, и повествующее в символических образах о Страшном суде. (См.: Ранняя русская драматургия XVII-первой половины XVIII в. Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974).
- [15] Эти персонажи могут присутствовать в вертепной народной драме и, благодаря мотивам Страшного суда в ней, приобретать почти тот же смысл, что и в иконе.
- [16] Эта особенность заметна на примере старообрядческих литературных сборников, где план расположения и качество используемого материла зависит от составителя. Ср., например, старообрядческий Синодик из Причудского собрания № 66 (Инст. Русской литературы. Пушкинский дом. Древлехранилище им. В.И. Малышева) с Синодиком Псковского Спасо-Мирожского монастыря (Шляпкин Н.А. Синодик Псковского Спасо-Мирожского монастыря // Памятники древней письменности. Вып. 4. СПб., 1880. С. 115—135).
- [17] Иконы из села Камянка 1586 г. и с. Трушевичи (см. Цодиович. Ил. 160—161).
- [18] На иконе из села Волча (Цодикович. Ил. 122, 124) приводится текст из Вечерни Мясопустной субботы, посвященной воспоминаниям о Страшном суде: «Егда поставятся престолы и отверзутся книги… что сотворим тогда во многих гресех повиннии человецы» и т.д. (Триодь Постная. М., 1974. Далее: Т.П. 1974. Л. 26—26 об.).
- [19] Подобие такой стены можно видеть на иконе XVI века из ГРМ (инв. № 1106). В русских изображениях может присутствовать архитектурное обрамление Вертограда без ярко выраженной стены. Дополнения такого рода в ранних иконах отсутствуют. Стена на месте Вертограда Заключенного появляется в русских памятниках в XVIII веке, видимо, под влиянием западноевропейских образцов.
- [20] 40. Покровский. С. 33.
- [21] 41. Там же. С. 20.
- [22] 42. Цодикович. С. 17.
- [23] Первая русская редакция жития Василия Нового из Миней Четий Митрополита Макария за март 26 день. Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Одесса, 1911. С. 435.
- [24] Там же. С. 943.
- [25] Там же. С. 432-433.
- [26] Покровский. С. 38.
- [27] О Прологе см.: Петров Н.И. О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога. Киев, 1875.
- [28] Петухов Е.В. Очерки литературной истории Синодика. СПб., 1895. с. 195.
- [29] Покровский. С. 96.
- [30] Буслаев. С. 136.
- [31] Покровский. С. 38.
- [32] Буслаев Ф.И. Русский лицевой Апокалипсис. СПб., 1884. Табл. № 119. Здесь композиция Вертоград Заключенный трактована как центральная часть изображения Небесного Иерусалима.
- [33] Апокрифы древних христиан. СПб., 1992. С. 62. «… И когда сказал это Енох, пришел другой муж, худой и умильный, несущий на плечах своих знамение крестное. И увидев его, все святые сказали ему: "Кто ты, ведь облик твой, как у разбойника? И что такое это знамение, которое несешь на плечах»?
- [34] Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. С. 213. Далее: Порфирьев.
- [35] Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966. С. 66. Ил. 61. Об иконе «Сошествие во ад» XVI в. Московской школы.
- [36] Буслаев. С. 135.
- [37] На третьей неделе Великого поста происходит поклонение Кресту.
- [38] Т.П. 1974. Л. 69 об.
- [39] Там же.
- [40] Надпись на иконе из Ярославского музея. Похожий диалог имеет место в Евангелии Никодима. Сахаров В. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и их влияние на народные духовные стихи. Тула, 1879. С. 36. Полное текстовое соответствие обнаруживает отрывок из слова Евсевия Александрийского «О восшествии Иоанна Предтечи во ад». Порфирьев. С. 212.
- [41] Разбойник присутствует на иконе «Сошествие …», поскольку он является героем богослужения Утрени Великого Пятка (Ексапостиларий «Разбойника благоразумнаго»), предшествующего сошествию Спасителя во ад в Великую Субботу.
- [42] Страшный суд Божий. Видение Григория, ученика святого и богоносного отца нашего Василия Нового Цареградского. М., 1995. С. 58.
- [43] «Единородный Сыне и слове Божий, Безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас».
- [44] В иконе «Величит душа Моя Господа» из Ярославского художественного музея, происходящей из Толгского монастыря, Богоматерь изображена в композиции почти на том же месте, что и Вертоград Заключенный на иконе Страшного суда.
- [45] Этот текст удалось зафиксировать на двух ярославских иконах, на палешском образе ХIX в., выполненном по схеме XVII в. (ЯХМ, И-1199). Присутствующие здесь слова Палладия Мниха можно видеть на полях лубочных листов XVIII.
- [46] Евангельские цитаты чаще встречаются в центре иконы у Этимасии, на свитках праведных; Псалтирь цитируется по отношению к грешникам. На иконе из ГРМ (ДРЖ-1716) XVII в. рядом с геенной надпись «Да возвратятся во ад вси языцы, забывающие Бога» (Пс. 9: 18-19). На этой же иконе на полях можно видеть цитаты из Палладия Мниха.
- [47] Антонова В.И. Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. Опыт историко-художественной классификации. Т. 2. XVI – нач. XVIII в. М., 1963. С. 102. Кат. № 484, инв. № ГТГ: 24839.
- [48] Интересно, что в общем плане служб, как и на иконе, Апостолы и Пророки стоят ближе всех ко Кресту.
- [49] Т.П. (Триодь Постная) 1656. Л. 24 об.
- [50] Т.П. 1974. Л. 26.
- [51] Т.П. 1656. Л. 21 об. Из службы по усопшим христианам.
- [52] Т.П. 1656. Л. 29. Синаксарь на Утрени Мясопустной субботы.
- [53] Там же. Л. 44 об. Из службы Мясопустного воскресенья, посвященной Страшному суду.
- [54] Там же.
- [55] Там же. Л. 69 об.
- [56] Там же. Л. 79. об. Утреня Сыропустной субботы. Память всех преподобных и богоносных отец, в подвиге просиявших.
- [57] Там же. Л. 375.
- [58] Покровский. С. 64-65.
- [59] См.: Повесть о Варлааме и Иоасафе, царевиче Индийском. М.; Л., 1947.
- [60] «Троица в бытии», XVI в. из Покровского монастыря в Суздале. ГРМ. № ДРЖ-2138.
- [61] Т.П. 1656. Л. 459.
- [62] Памятники славяно-русской письменности, изданные императорской археографической комиссией. Вып. 13. Тетр. 2. Великие Минеи Чети. Декабрь. Дни 25-31. М., 1912. Ст. 2202-2217.
- [63] «Святи отроцы Твои, в пещи пламене огненнаго предживописаху таинственно иже от Девы Твое пришествие, неопально возсиявшее нам, и Даниил же праведный и во пророцех чудный, ясно Божественное второе Твое пришествие проявляя, видех дондеже престоли поставшиися глаголет, и Судия седее, и огненная потече река: еяже да избавимся, Христе, молитвами их, Владыко». (Минея за декабрь. М., 1799. Л. 110 об. Нед. Св. Праотец).
- [64] Икона происходит из Христорождественского собора в Каргополе. Дерево, темпера. 180х155. ГРМ

 Мария Давидова
Мария Давидова